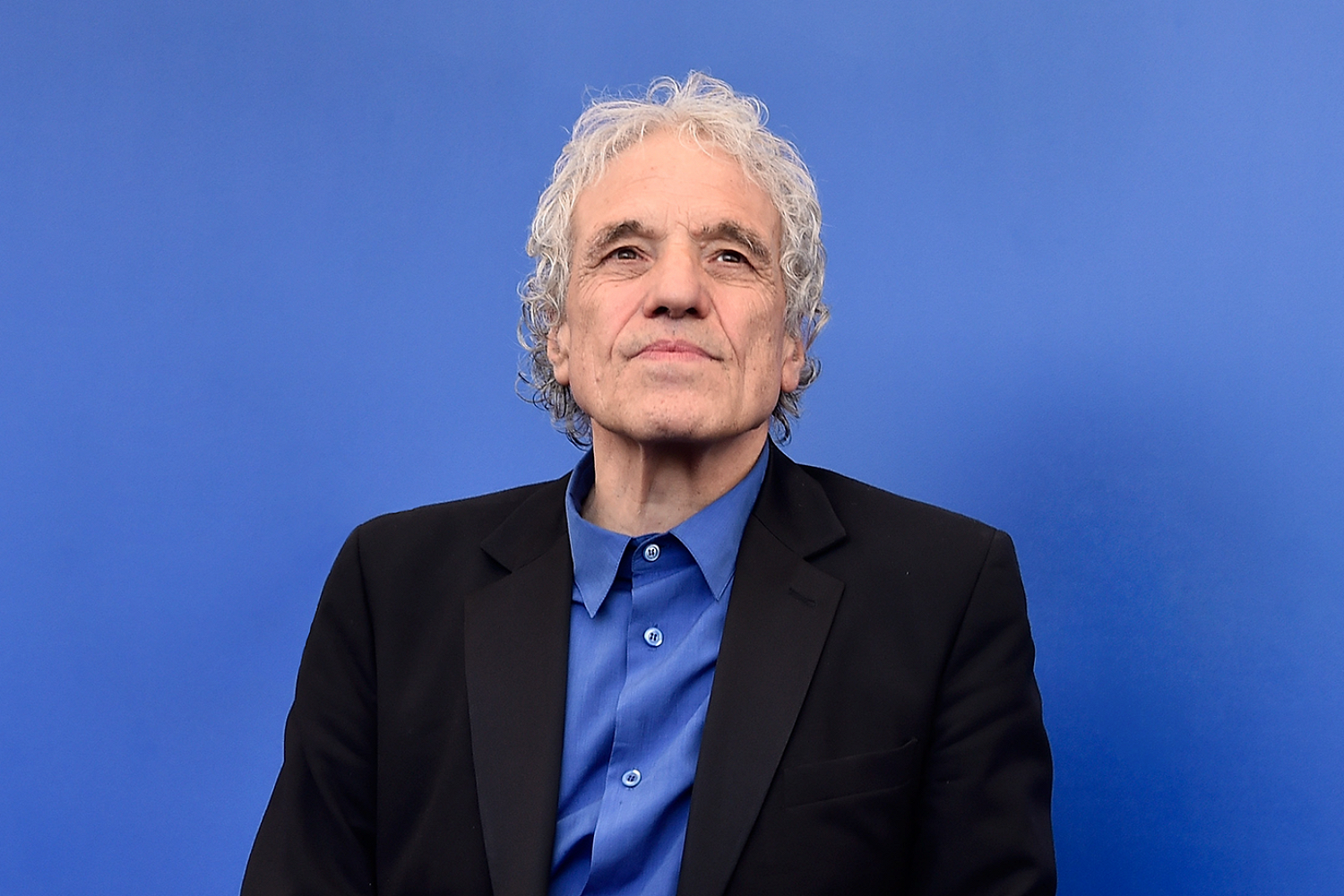— Вы в последние годы работаете, как будто вам снова 25: снимаете на улице, снимаете собственную семью. Это раскрепощает или наоборот?
— Да, мы чередовали большие художественные проекты с документальными. Меньше людей, меньше денег — в каком‑то смысле это раскрепощает, конечно. Но есть нюансы. Когда имеешь дело с цифрой (с цифровой камерой. — Прим. ред.), можно делать очень длинные планы, например. Но для этого тебе нужны оператор и актеры, которые способны так работать. Вообще, правило простое: стиль съемки должен соответствовать предмету. Вот и все, понимаешь? Мы сейчас снимали «Сибирь» в Мексике и в павильоне в Мюнхене — это уже совсем другая история.
— О, а вы уже сняли «Сибирь»?
— Она почти готова, да, мы сейчас звуком занимаемся. Рассчитываем показать ее в Берлине.
— Ничего себе. А ведь раскадровки, над которыми работает герой «Томмазо», — это и есть «Сибирь»?
— Да-да. Мы буквально сняли эти сцены.
— И там играет Николас Кейдж?
— Нет, с ним не получилось из‑за расписания. Там играет Уиллем [Дефо].
— А Изабель Юппер тоже не смогла?
— Нет. Мы постарались использовать побольше настоящих актеров, как в «Томмазо».
— Непрофессионалов, в смысле?
— В том числе.
— И вы, значит, снимали в Мексике?
— Мы, во-первых, снимали в Альпах. «Сибирскую» в кавычках часть фильма. Это, в принципе, такой Джек Лондон… Солженицын…
И мы взяли итальянские Альпы из‑за снега и собак и всего этого безумного дерьма. Это сумасшедший фильм для нас — сначала Альпы, потом пустыня в Мексике. Что‑то доснимали в павильоне в Германии. И в Лос-Анджелесе тоже — в общем, это было такое кино-кино.
— Могли бы в настоящей Сибири снять.
— Мы сделали похоже на Сибирь.
— А вы там были вообще?
— Нет. Но я был там много раз в своем сознании.
— Это действительно по мотивам книги Юнга?
— Да, но я не могу толком об этом говорить, потому что я обещал фонду Юнга, что не буду. С ними было очень, очень непросто, если ты понимаешь, о чем я. Между нами — да, это очень даже по книге Юнга.
— Да это и в «Википедии» написано, тот еще секрет.
— Ха-ха, может быть, но для них это секрет. И чем меньше я буду говорить, тем меньше у меня потом будет проблем.
— Да ладно, они вряд ли изучают русскую прессу.
— С интернетом все может быть — ты удивишься. С этим (показывает на телефон) за тобой следят в любой точке мира.
— А вы видели сам манускрипт «Красной книги»? Это же с ума сойти, как будто какое‑то средневековое пособие по черной магии.
— Да-да, конечно, видел. Да! Он совершенно не в себе был, потрясающе. Это полное погружение в бессознательное, он пытается писать, не контролируя собственную руку.
— Вы написали сценарий с человеком по имени Крис Зойс, верно? Откуда он вообще взялся? У вас уже четыре или пять фильмов с ним.
— Он психиатр.
— Просто знакомый?
— Да. Это забавный момент: он работал с наркозависимыми, а я был наркозависимым, но я при этом ни разу не обращался к нему как к доктору, за медицинской помощью. Тут есть ирония, конечно. Для меня он просто сценарист.
— То есть это чистое совпадение?
— Не совсем. Он помогал девушке, с которой я тогда жил. Буквально спас ей жизнь. Он правда блестящий психиатр. Но уже не практикующий. У него книги есть… Он старый, ему за 70. С «Сибирью» как все началось: Уиллем [Дефо] никогда не был у психотерапевта. И мы отправили его на психотерапию и записывали сеансы на видео. «Томмазо» в очень большой степени основан на моем личном опыте. А «Сибирь» — на опыте Уиллема. Он практически персонаж этого фильма.
— И его героя там, судя по «Томмазо», зовут Клинт? Это смешно.
— Да, в фильме это особенно смешно. Для меня, по крайней мере. Потому что он выглядит как Клинт Иствуд. Но его никто так не называет, и только ближе к финалу кто‑то наконец обращается к нему: «Клинт…». Это контекстуальная шутка — там же дело происходит в лесу, в пустыне, это иногда похоже на ковбойское кино.
— Есть мнение, что режиссер-автор все время переснимает плюс-минус один и тот же фильм, и ваша фильмография в этом смысле довольно показательна.
— Ну, кроме прочего, я всегда работаю с более-менее постоянной командой. «Убийцу с электродрелью» и «Зависимость» разделяют 20 лет, но это примерно одни и те же люди. Ники (Николас Сент-Джон, писал сценарии почти ко всем фильмам Феррары до 1996 года. — Прим. ред.) потом ушел — он больше не хотел иметь ничего общего с кино. И да, что сказать… Ты меняешься, конечно… Но я не могу переродиться в другого человека. В этом красота процесса: как все эти фильмы друг с другом перекликаются. Особенно когда, например, я беру Уиллема шесть-семь раз. И меня спрашивают — чего ты его все время используешь? А я отвечаю: а почему нет? Это часть нашего материала, нашей работы. Мне не приходит в голову — дай-ка я пойду поищу другого актера. Зачем? Одной проблемой меньше!

— Дефо же тоже много времени проводит в Италии?
— Он через дорогу от меня живет. Мы соседи. Он крестный моей девочки — поэтому сцены в «Томмазо» так легко получились. Жена Уиллема — итальянский режиссер.
— Вы совсем перебрались в Рим?
— Да, заниматься кино в Нью-Йорке стало для меня невыносимо, особенно после 11 сентября.
— В моральном смысле?
— Во всех. Понимаешь, когда случилось 11 сентября, это было абсолютно чудовищно. На разных уровнях. Друзья и… Столько людей там погибло… И сразу после этого Нью-Йорк стал фантастическим местом — как город, как сообщество жителей этого города. Но это было последнее ура. А потом все превратилось в сделку по недвижимости. Как когда Манхэттен купили у индейцев. Индейцы получили 24 евро. 20 долларов, что‑то такое. Ни хрена не получили, в общем. И город стал… Я что‑то подобное почувствовал в Москве сейчас.
И вот в Нью-Йорке то же самое: куда делись все бедные? О, у нас их нет. Если ты не можешь позволить себе «Убер» — проваливай. Понимаешь? В Нью-Йорке метро — это полная катастрофа. Потому что если ты не на «Убере», какого черта ты вообще здесь делаешь? Это такая, не знаю, как сказать… детская площадка для всех международных сраных воров. И все эти фашистские законы: разбил окно — на тебя заводят дело. Любые мелкие нарушения: оказался пьяным на улице и так далее. Если ты в Нью-Йорке попытаешься пройти в метро без билета, прыгнешь через турникет — ты отправишься в тюрьму. Без вариантов. Они тебя поймают, потому что видеокамеры повсюду. Тебя возьмут, и ты в дерьме, мальчик. И при этом если ты украдешь сто миллионов на Уолл-стрит, тебе вручат сраные ключи от города. Двери открыты для любого гребаного воришки. Начиная с Трампа. Он начинал с недвижимости, был символом всего этого, и теперь он президент.
— Вы на Манхэттене жили?
— Да, в самом центре. Мы бедные люди, но мы там живем, ладно. А те, кто приезжает, иммигранты? Они работают так, словно строят пирамиды в гребаном Египте. Они надрываются. В Риме, где я теперь живу, нет никакого культа работы. Типа работай, но не увлекайся, понимаешь, о чем я? А последний раз, когда я приезжал в Нью-Йорк, я оказался высоко в небоскребе, и я посмотрел вниз в окно, и просто стоял на улице один-единственный человек. Вот клянусь. Надо было фотографию сделать. Знаешь, как в Италии люди стоят на улице, разговаривают. А там все были в движении.
Иметь право сказать «я живу в Нью-Йорке»? Не знаю, чувак. Наверняка для многих это нормально. И я говорю про Манхэттен, снаружи все немного иначе. Там бедность, там убийства и все остальное. Пока это остается на периферии — нет проблем, главное, не тащите это нам в город, типа.
— В Риме все не так?
— Да, конечно, Рим — это как страна третьего мира…
— Ну уж прямо третьего.
— Ладно, не третьего. Если мы говорим именно про Рим, окей. Рим, Ватикан, правительство. Но как только ты отъезжаешь на юг — все. Южная Италия, Сицилия, как только ты оказываешься в сельской местности… В Италии половина населения — безработные. Это катастрофа. В духовном смысле, понимаешь? Они не могут обеспечить своих детей. В экономическом смысле там все очень жестко.
— Ваша семья ведь изначально из Неаполя?
— С юга, да.
— Но вы не говорите по-итальянски?
— Parlo italiano un poco… Чуть-чуть. Достаточно, чтобы жить, — я не могу вести философские беседы.
— Как Уиллем в фильме?
— Нет, Уиллем говорит хорошо, у него отличный итальянский. У него, как я говорил, жена итальянка. Плюс он умный.
— То есть вы прямо круглый год в Италии?
— Да, я все время там. Последние пять лет, по крайней мере. С тех пор, как я встретил Кристину и у нас родился ребенок. После «Пазолини» перебрался совсем. Я бываю в Нью-Йорке, но мне там нечего ловить. Я вырос в этом городе, а теперь там все подорожало в пять раз. Мне это не надо. Я не буду платить десять евро за бутылку воды. Это нормально для туристов или для дотком-миллионеров, но для меня — нет. Это мой город, вы не можете этого делать с моим сраным городом.
Зачем мне этот гламур? Где рабочие, которые построили этот город? Они не могут себе позволить жилье. Все по Марксу: люди работают на то, что им не по карману. Понимаешь? И тут то же самое. В Петербурге еще туда-сюда, а в Москве вообще. Вот я сижу там в красивом баре в красивом отеле, вокруг какие‑то люди, но они даже не похожи на русских. Или вот парень (кивает на бармена азиатской внешности. — Прим. ред.), он приехал откуда‑нибудь из Казахстана и с чистым сердцем наливает мне каплю воды за пять евро. Спасибо… Слава богу, мы работаем, можем себе позволить… Сколько эта вода, кстати, стоит (бармену; тот роется в меню, отвечает не сразу)? 400 рублей? Это сколько?
— Пять евро примерно.
— Ну вот. И он даже сам не знает, сколько она стоит, четыреста или тысячу, или четыре тысячи. Он знает, что есть вода в крошечной бутылочке и есть сумасшедший мужик, который ее покупает. В Италии все не так. За исключением совсем маленькой части Рима. Впрочем, я уверен, что в остальной России все тоже иначе, там «Сан-Пеллегрино» никто не пьет.
— А вы быстро привыкли к итальянской жизни: эспрессо на ходу, вот это все?
— Да, это чудесно, мне очень нравится. Ну ты видел в «Томмазо». Это и есть жизнь. Люди приятные, счастливые, погода хорошая, еда отличная. Удивительное понимание культуры, искусства. Важно не то, что я известный человек, ну ладно, это тоже немного важно, но главное, что я режиссер. В Нью-Йорке всем насрать: гангстер ты или режиссер, важно, сколько ты зарабатываешь, и точка. А там просто на улице, даже когда я не снимаю, — я режиссер. «Он режиссер». И все такие: а, ну да. Люди понимают, что такое быть художником. Кажется, что это ерунда, но для меня это важно. Врубаешься, да? Мне не нужно оправдывать свое существование количеством денег, которые я заработал за последнюю неделю. Это аморально. Это просто не круто. Плюс у римлян три тысячи лет традиций.
Это такое удивительное чувство истории, понимаешь, о чем я? А Соединенные Штаты что — молодая страна… У вас же тоже молодой город?
— Да, триста лет.
— А, ну значит, его строили примерно одновременно с Нью-Йорком. А Москве?
— Москве восемьсот с чем‑то, но там особо ничего не осталось.
— Ну вот, прекрасный пример. А в Риме такое невозможно, они уважают традиции, историю. Многие вещи остаются неизменными — это дает тебе другую жизненную оптику. Меня воспитали итальянцем. Я вырос в Бронксе, и мой отец и его братья, все родившиеся в Нью-Йорке, до школы не говорили ни слова по-английски. Ни единого. Мой дед приехал, когда ему было 20 лет, и дожил до 96. Он добился большого успеха в Америке, и он любил Америку, и он вообще не говорил по-английски! Не знаю, как ему это удавалось.
— А чем он занимался?
— Он продавал металл и все такое прочее. Полный набор. Он был типичный иммигрант: приехал, заработал много денег, его брату не понравилось, и он вернулся, а дед остался, завел большую семью, купил недвижимость. Он был умным мужиком, не гангстером. Работал в поте лица. Потом наступила Депрессия — и они обчистили всех приезжих, это как будто был просто повод, чтобы ограбить всех этих ребят. И у деда был нервный срыв, он потерял все деньги, он наконец понял, что это за страна, получил гребаное послание. Он оставил одиннадцать детей с женой — ты представляешь? — оставил их и вернулся домой, в городок под Неаполем. И год прожил там с матерью, она его выходила. И он вернулся, и был готов сдвинуть горы. И тут случилась Вторая мировая, его бизнес резко пошел в гору, он снова оказался на коне. В общем, образцовая американская история XX века. (Смеется.)

— Вы в Риме общаетесь с местными? Или только с экспатами?
— У меня там есть группа кинематографистов, они итальянцы, мы почти 20 лет вместе работаем. «Томмазо», например, в основном итальянцы сделали, за исключением нас с Уиллемом. Я дружу только с теми, с кем работаю. Ну я встречаю соседей, разумеется.
— Футбол смотрите?
— Я американский футбол смотрю. Подсажен на него абсолютно. И я предан своей команде, худшей команде в Соединенных Штатах. «Джетс» — это моя последняя оставшаяся зависимость… Понятно, что в Риме не избежать футбола, это религия и все такое. Но я так же фанатично отношусь к своей команде. Я смотрю матчи по интернету, читаю блоги, с ребятами из Нью-Йорка в контакте… Завтра игра, и я сегодня вечером отсюда сматываюсь, потому что я не могу пропустить этот матч. Который они проиграют. Вне всякого сомнения. Страшно даже подумать, как они завтра продуют. Потому что у моей команды есть спаситель, один великолепный игрок. Ему 21 год, он из Калифорнии. И он прибыл в Нью-Йорк, чтобы спасти эту команду после двадцати лет позора. И вот начинается сезон, и у него находят мононуклеоз. Ты можешь поверить? Первая игра. Они тренировались полгода. И он выбывает в первую же неделю. И пропустит шесть игр, а то и больше, кто знает. Это проклятье, которое висит над моей командой. Единственный 21-летний парень, который может изменить судьбу целого города Нью-Йорка, лежит на больничной койке, и завтра игра. С ним они плохи, без него — безнадежны. Он талант вроде Тотти.
— В Нью-Йорке вы ходите на стадион?
— Нет, никогда. Я смотрю игры один, это слишком… Слишком.
— А ставки делаете?
— Никогда в жизни, нет. Мой отец был законченным игроком. Он был наркоманом и алкоголиком, но зависимость от ставок — это самое, самое худшее, что бывает. Отец работал букмекером: он не только делал ставки, но и принимал их. А когда ты принимаешь чужие ставки, ты в любом случае заработаешь, потому что ставки — это заведомо проигрышная история, я точно знаю это, я наблюдал. Так что я и билетика лотерейного не куплю, это полный идиотизм. Я пил и принимал наркотики, но даже тогда я ни разу не ставил деньги. Ты сам как, ставишь?
— Нет.
— И правильно. Когда ты пьешь, у тебя есть предел, больше которого не выпьешь. А с игрой не так — ты можешь свою жизнь проиграть. За час.
— Совсем без зависимостей невозможно, вы так не считаете?
— Почему? Не только не считаю, я знаю, что это не так.
— Любовь — разве не зависимость?
— Необязательно. Что такое зависимость — это то, от чего ты не можешь избавиться и что имеет негативную коннотацию.
— Мне просто кажется, что «Томмазо» — во многом про это. Он вроде со всем завязал, но при этом не свободен.
— У него проблема с женщинами. Ну да, да. Можно сказать, что это зависимость. И ему приходится с ней как‑то разбираться, и он не так счастлив, как кажется на первый взгляд. Это сложно: он знает, что не может пить или принимать наркотики, но что делать с сексом, какие там правила?
— Сцены с Дефо-Иисусом выглядят прямыми цитатами из «Последнего искушения Христа».
— Изначально я вообще думал, что герой может быть актером и, может быть, он когда‑то играл эту роль, как Уиллем. И эти две сцены — с распятием и когда он вырывает собственное сердце — я хотел взять у Скорсезе. То ли он думает об этом, то ли это правда его роли — мы же толком не знаем, кто он, может, он и режиссер, и актер, мы не знаем толком его прошлого. Но в итоге это как бы моя история, не Уиллема, и мы используем события из моей жизни. Плюс пришла идея использовать Булгакова. Понимаешь, если говорить о страстях, там три основных акта: суд Пилата, Гефсиманский сад и распятие. Мы просто поместили их в современные декорации.
— Вы поклонник «Мастера и Маргариты», судя по всему?
— Да, естественно. Я поклонник всего, что он написал. Он прекрасный писатель, нет?
— В России его очень любят.
— Его во всем мире очень любят! «Мастер» — вообще отдельная история, но и другие книги тоже. Та книжка про наркомана-доктора — вау. Как она называется? Это шедевр, чувак.
— В ваших итальянских фильмах уже не впервые возникает тема беженцев.
— Эту тему раздувают в таком странном ключе, что там, что в США… Эта идея, что люди из Гватемалы, из Центральной Америки как‑то разрушат Соединенные Штаты. С чего бы? Мне кажется, наша страна может впитать их. Если наш президент не будет демонизировать людей, которые по сути — военные беженцы. Они как евреи, которые пытаются спастись от Гитлера. А африканцы? Я сделал про это фильм «Пьяцца Витторио», ты видел, да? Они об этом не говорят, но все ж понятно. Они из таких мест — парень, сколько человек тебе пришлось зарезать, чтобы оттуда сбежать? Врубаешься? Это же война. Они сюда бегут не макароны жрать, они спасают свои жизни. Где наше сострадание?
— В Италии тоже Сальвини этот.
— Да, там абсолютно то же самое, ровно та же песенка. Из Америки приезжал этот чувак их накачивать, как его зовут, сумасшедший советник Трампа (Стив Бэннон. — Прим. ред.). Потом антикитайская истерика, вся это безумная срань. Это же все старо как мир. Они не чувствуют историю — в последний раз, когда велись такие разговоры, сто миллионов погибли. Понимаешь, о чем я? Сколько прошло со Второй мировой — семьдесят лет? Когда ты живешь в Риме, семьдесят лет назад — это пять минут назад. Я как буддист не понимаю всей этой ненависти.
— Вы буддист?
— Да, конечно.

— А как бывшего католика вас как‑то трогает, что Ватикан рядом с домом?
— Чем ближе к Ватикану, тем больше вокруг атеистов. Эти ребята — они уже не при делах, чувак. Все это растление детей… Они не могут отыскать себе оправдание, понимаешь. Но людям все равно нужна какая‑то духовная жизнь. Мы можем завтра сказать: к черту церковь, убьем всех попов, закроем все храмы. Но людей не изменить. Вот у вас же они не отказались от религии, правда, несмотря на весь коммунизм? В Италии коммунисты говорили, что Иисус — коммунист. Но в такой стране, как Италия, трудно проповедовать чистый коммунизм. Иисус, для начала, был евреем. Как можно уничтожать евреев и потом говорить про Иисуса? Это странный парадокс: «я католик, и я ненавижу евреев; я поклоняюсь единственному классному еврею, а от всех остальных засранцев надо избавиться».
Это очень по-итальянски — сделать героем парня, которого они сами казнили. Не знаю, кто это придумал — итальянцы или евреи, это такая итало-еврейская амальгама: подавить людей этой безумной историей. Ты делаешь героем не Понтия Пилата, а бедного еврея, которого ты прибил к гребаному кресту. За что? За то, что он не хотел платить налоги? Он, наоборот, говорил: платите налоги. Это еще более революционно. «Кесарю кесарево». Что этот парень говорит? Он революционер. И это худшее, что можно сказать. Я вот вырос в итальянском гетто, и до сих пор это худший ярлык. «Этот парень — революционер» на языке мафии означает, что его скоро убьют. Я сделал фильм «Мария», я ездил в Иерусалим — и именно там я стал буддистом.
— В Иерусалиме?
— Конечно. Потому что там ты видишь, что еврея невозможно отличить от араба. Может, Иисус был арабом, он был мусульманином. Или ладно, он был маленьким гениальным еврейским мальчиком, самым умным, у него была бар-мицва, после которой парень пропадает на 20 лет. И потом у него вдруг момент озарения. Какого черта он делал эти 20 лет? В Египте были все лекарства. Если у тебя катаракта и доктор ее вылечит, я не побегу: «А-а-а, слепой прозрел, прибейте его к кресту». Или кто‑то в коме, и его спасают, это не воскрешение мертвых. Он доктор, и баста. У него была способность лечить. А потом у него случился весь этот буддистский трип, который появился за 800 лет до этого.
Будда — просто человек. С которым нужно спорить, в котором нужно сомневаться, чью доктрину нужно испытывать собственным опытом. А не то что сидят какие‑то люди и судят тебя. Нет начала, нет конца, нет рая, жизнь длится вечно — ну ты представляешь буддистскую тему. Ключевая идея в том, что ты попал на Землю не для того, чтобы страдать. И если ты страдаешь, значит, ты в плену иллюзий. Я говорю не про рак или что‑то такое, естественно, а про психологическое, философское страдание.
— Вы еще до #MeToo сняли «Добро пожаловать в Нью-Йорк» про двойника Доминика Стросс-Кана. Он подал на вас в суд, да? Чем кончилось?
— Да-да, за распространение порочащих сведений. Мне кажется, это дело закрыли… Во Франции. Но я был перед трибуналом, все дела. Я режиссер. Для меня это нарратив. Это как «Томмазо» — это фильм про меня, но он не про меня. В «Добро пожаловать» главный герой — он где‑то между мной как режиссером и Депардье. Я проделал большую подготовительную работу, я говорил с полицией и так далее, со всеми. А Депардье абсолютно насрать на эти мои изыскания. Он знаком со Стросс-Каном. Он знаком со шлюхами. Он знает эту сторону французской жизни, о которой у меня нет никакого представления. И он не испытывает ни малейшего уважения по отношению к этим людям. Ему говорят, что мужик — отличный экономист, а он считает, что тот просто мудак. И Депардье заработал в миллион раз больше него. Стросс-Кан был университетским профессором, который женился на самой богатой девке во Франции. Жерар — парень из ниоткуда, который заработал несколько миллиардов долларов, не знаю, сколько у него там осталось. И кто после этого экономический гений?
— У него еще и российское гражданство.
— Вот-вот. Он единственный парень, который был личным другом и Путина, и Фиделя Кастро. Этот фильм финансировали ребята из России, кстати. Из Азербайджана, точнее. И я готов отстаивать этот фильм и свое право на него как художника. Я был в Нью-Йорке, когда случилась эта история, все это безумие было в прессе с утра до ночи, это был огромный скандал — и они отпустили его, чувак. Это то, о чем я говорил. Ну да, они сначала посадили его в тюрьму. По каким‑то своим причинам. Одна из которых, вероятно, то, что Стросс-Кан хотел уйти от доллара в качестве мировой резервной валюты. Два человека, которые заикались об этом раньше, — Саддам Хуссейн и этот парень из Ливии, как его, Каддафи, да. Ты видел, что с ними произошло.
— А что #MeToo?
— А что #MeToo? Я верю в судебный процесс. Я не верю в расследование и казнь в прессе. Этих ребят судят — и хорошо. «Мирамакс» в суде — пусть эти люди придут и выскажутся.
— Я скорее про культурные последствия, они же заметны, правда?
— Да, мы смотрим сексуально подавленное кино. Впрочем, оно было таким и без #MeToo. Мы сейчас сделали документальный фильм «Киномеханик» — про кино в Нью-Йорке 70-х. Люди сегодня не смотрят «Сало» или «Дьяволов», или «Последнее танго», не смотрят те фильмы, которые я смотрел, когда снимал хардкор-порно.
— Или ваши фильмы.
— Или мои фильмы, да, потому что я вырос на том кино. Молодой оператор сегодня снимает девицу, и когда камера опускается до талии — хоп, все. Полное сексуальное подавление, понимаешь? Вокруг вся эта интернет-порнография… И они смотрят «Нефтликс», у них телевизионное ДНК, они ни черта не понимают ни о себе, ни друг о друге, ясно, что можно общаться через фейсбук или скайп, но это не то же самое, что лицом к лицу.
При этом понимаешь: я наблюдал женское движение в 70-е, феминизм, и это были действительно важные изменения. И у меня три дочери. Моей младшей четыре, так что она пока не понимает, что ее угнетают. Но она быстро поймет. Две мои другие дочери — приемные, они черные. И когда ты растешь в США, ты черный — галочка, ты женщина — вторая галочка. Это чертова реальность. И все, что поможет это изменить, я приветствую. Но обвинения на основе каких‑то двусмысленностей — нет. Это темные века. Изнасилование — это изнасилование. А тут в ход иногда идут просто какие‑то сплетни. И я снимаю такой фильм, как «Добро пожаловать в Нью-Йорк», и теоретически я не могу показать изнасилование, не могу показать то-се. К черту это!
— У «Томмазо» будет какой‑то прокат?
— Кое-где, может быть, да. Но точно не на «Нетфликсе» или «Амазоне» — там мы персоны нон грата.
Фильм «Томмазо» можно увидеть на «Амфесте» в Москве 26 октября.