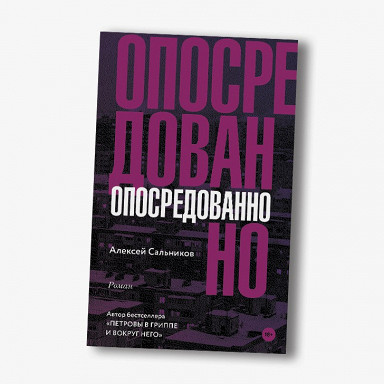— В нулевых вы были участником поэтической студии нижнетагильского поэта Евгения Туренко. Как появилась студия в вашей жизни, и можно ли считать это началом поэтического пути?
— Да, можно считать началом. Сначала я просто писал стихи для себя, это происходило в компании друзей. Я работал в то время в автосервисе и внезапно отдал свои стихи другу, который учился в каком‑то училище, строительном техникуме, где преподавал Туренко. Отдал для того, чтобы он выдал мои стихи за свои. Туренко узнал, что это чужие стихи, обругал друга, но пригласил меня к себе. Я долго его вылавливал, он был человеком дачным и все лето проводил там, поймал его только осенью минут на 15. Он, конечно, обругал стихи, но предложил мне встретиться еще раз. И вот так постепенно, сам того не заметив, я втянулся в эту компашку и превратился отчасти в маргинала.
Помню, как‑то во время разговора с Туренко внутри меня что‑то изменилось: мы обсуждали мой текст, и он предложил правку. «Но это же будет абсурд!» — сказал я. «Ну и что?» — ответил он. И тут у меня в голове что‑то щелкнуло и заработало новым образом. Так я постепенно и начал писать стихи.
— Вы считаете это началом? Но ведь в студию вы пришли уже с каким‑то корпусом текстов?
— Конечно, но осталось от них всего текста два, переживших студию и учебу, — они попали даже в антологию уральской поэзии. А на ранние юношеские стихи мне стыдно смотреть — это как будто сам себя голым фотографировал, или как если бы увидел свои детские фотографии-селфи и понял, что это как‑то не очень хорошо.
— Настроенчески некоторые ваши стихотворения похожи на кино про русскую действительность. Довольно безрадостную, надо сказать.
— А я думал, я пишу смешные стихи, и когда я их читал, все всегда смеялись! Но иногда от необычной метафоры смех возникает, как Шварц описывал.
— Расскажите, а как строились обсуждения в поэтическом кружке? По такой же модели, как в Литинституте: у тебя есть мастер, ты приходишь к нему на семинар, выходишь за кафедру, читаешь стихи, и начинается дискуссия?
— Нет-нет, просто участники приносили тексты, и Туренко что‑нибудь говорил. Иногда это просто были личные встречи, один на один, он смотрел стихи, высказывал свое мнение, вступал в спор. Но надо было сразу убирать от него листы, потому что он порывался моментально править все подряд.
Поэтическая школа в моем понимании — это все же не учитель и ученики, а общность. Туренко умел привлекать в эту общность людей и действительно мог их научить. Для меня школа — это некое пространство, кружок людей, которые занимаются одним и тем же. У меня остались с того времени друзья: Катя Симонова, Руслан Комадей, Лена Баянгулова.
— Кроме текстов своих знакомых вы читаете современную поэзию?
— Как получается. В ленте встречается по десятку текстов в день, читаю. Фейсбук формирует твое чтение.
— Я почему спросила: героиня «Опосредованно» Лена читает не современную поэзию, а Блока, Пастернака. Почему так?
— У нее просто нет доступа. Она сама же не покупает, а продуцирует. Многие поэты ей не знакомы и не могут быть. Я попытался показать, как хороший автор пробирается к читателю, даже если имя его неизвестно.
— У вас так же произошло ведь? Сначала вас публиковали в толстых литературных журналах, а потом «Волга», и случился этот бум с «Петровыми» — Bookmate, публикация в АСТ у Елены Шубиной, «Большая книга», «Нацбест», «НОС», сотни хвалебных рецензий, невообразимый успех…
— Это просто чудо для меня, я ужасно удивлен. Даже не анализировал, почему так произошло, — анализ предполагает, что я буду действовать по какой‑то стратегии в дальнейшем. А на самом деле нет никакой стратегии, тексты приходят в голову, не отпускают, и приходится их писать.
— В одном интервью вы сказали, что первым звоночком к «Петровым» стал рассказ Борхеса про античных богов, а повлиял на них Ирвинг, его роман «Покуда я тебя не обрету». А что насчет «Опосредованно»? Откуда взялась такая идея книги — о поэзии как о запрещенном наркотике?
— Она возникла сама собой. Сначала идея была абстрактно про некое короткое слово, состоящее из звуков, которое имело бы наркотический эффект. Я хотел к этому приплести Хлебникова, который искал это героиновое слово. Но задумку ломало то, что не сходилось: откуда он узнал это слово и почему он изначально не знал, как оно звучит, если ему про него, к примеру, сообщили. То есть он мог не искать его больше, а должен был им пользоваться и пользоваться — а у Хлебникова все же поиск виден. И как‑то не вязалось. А потом постепенно замысел стал складываться…
— Вы долго писали этот роман?
— Года два. Но придумывал дольше. Сначала там была довольно авантюрная история, Лена должна была стать криминальным авторитетом, а Дмитрию, ее компаньону, ломали руку в первоначальном варианте. Но потом замысел изменился — мне захотелось все же показать жизнь поэта так, как ее проживает большинство пишущих людей. Есть ведь определенная специфика, потому что часто семья не разделяет этих интересов. Многие думают, что поэты выделываются — обычный человек, который не пишет, не читает стихов, находится вне литературного опыта, думает иногда, что это дичь, что это слова, которые просто поставлены в некоем порядке.
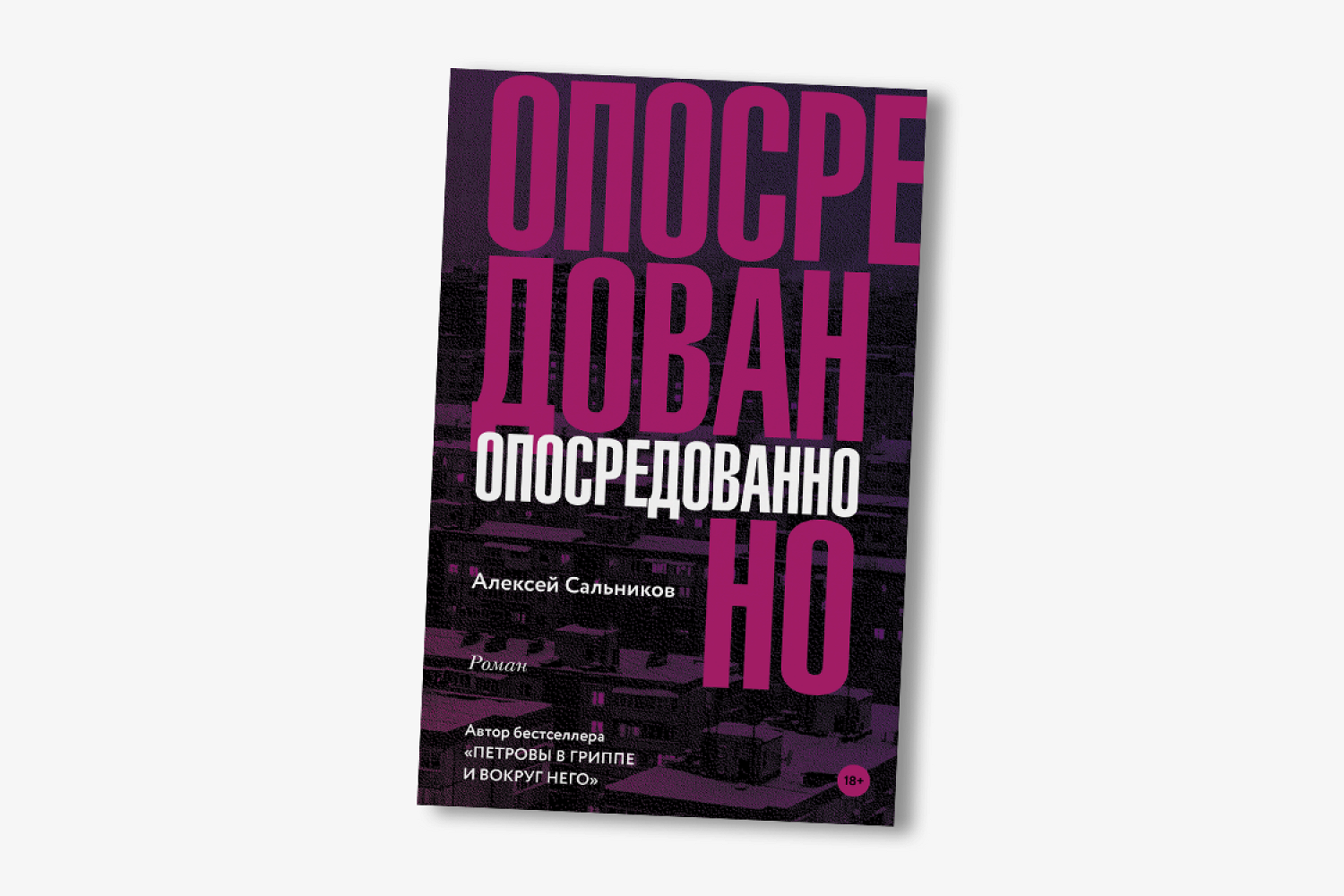
— Слова, записанные в столбик.
— Примерно так же, как смотрят на абстрактные картины и думают, что художник просто выделывался и получил денег ни за что. И что радость критики ниоткуда, неясны восторги, просто все куплено — и вокруг одни сплошные договорники.
— А что сформировало ваш поэтический вкус?
— По-моему, у меня Заболоцкий дома лежал, как он попал ко мне, сам не знаю. Но всегда любил и раннего, и позднего Заболоцкого.
— То есть вам ближе рифмованные стихи? Вы видите в них магию?
— К сожалению, да. Что во мне плохо, у меня абсолютная глухота к верлибрам. Я вижу в них только фабулу. А той плотности текста в верлибре, какая присутствует в традиционном стихе, в просодии, я не наблюдаю — как перекликаются гласные, согласные, как образы залиты в форму диковинным образом… Формальная сторона меня тоже иногда торкает. Это ведь дополнительное значение слов, когда они просто формально расположены в каком‑то месте стихотворения — это удивительно.
— Современная поэзия давно отошла от рифмованных стихов, осваивает новые территории, вскрывает самые болевые точки общества, все чаще проговаривает какие‑то травмы и реагирует на актуальную повестку.
— И она ближе к рэпу, да. Но сейчас существует масса поэтических языков. Если брать, к примеру, андеграунд, даже там существует множество поэтических языков, где люди иногда настолько углублены в одно направление, что даже коллеги-верлибристы не понимают друг друга. И это нормально. Никогда не было единого поэтического языка, да и литературного. Почему, например, представители одного литературного языка не принимают представителей другого? До полного отторжения и вражды. Это все от множества языков. В стихосложении присутствует Вавилонское столпотворение.
— Как по-вашему, Лена, ваша героиня, пишет хорошие стихи? И только ли хорошие стихи могут стать наркотическим трипом?
— Такие, средние пишет — не сказать, что шедевр… Она поэт все же невыдающийся, обычный, о котором через 200 лет помнить не будут. Но мне именно про энтузиастов стихов или другой интеллектуальной деятельности хотелось написать. Причем это довольно веселое повествование, по сравнению с тем, что в реальной жизни у людей происходит, которые пишут стихи.
У нас есть в Екатеринбурге несколько представителей таких. А сколько полегло поэтов за это время, в том числе благополучных, удачных и известных!
— Писателя портит известность?
— Я, к счастью, не актер, меня не узнают на улице. В подъезде вот узнали раз — не более того. Это меня радует. Я, как говорил, того же направления и придерживаюсь в выражении своих мыслей. Но, по-моему, я стал добрее. Раньше я жестче относился к текстам, а после «Петровых» появилось принятие всего и спокойствие.
— И критику тоже спокойно принимаете?
— Да. Те критические статьи, которые мне скидывают, например, в фейсбуке, воспринимать просто: в комментариях сразу же появляется Идиатуллин и пишет «Сальников лутшый!» Хотя мы с ним виделись один раз в жизни, зато фейсбучные друзья.
— Читала критику на «Опосредованно», где сетовали, что роман можно разделить на две части: о поэзии и о бытовой жизни героини… Что скажете?
— А как их тут разделить? Это история о таком среднем поэте, для которого стихи все же не заслоняют быт. Они присутствуют, они дополняют и срастаются с бытом, но человек все равно не отдан этому полностью.
С другой стороны человек, который полностью отдан поэзии. Вокруг него все равно — чтобы обеспечить его горение в поэтическом тексте — присутствуют жена/муж, дети, которые ходят на цыпочках и обеспечивают ему приток воздуха, беспокоятся, чтобы он элементарно не умер от голода. Поэтому поэзию и быт разделять неправильно, поэзия оттуда и произрастает — «из сора».
— Вас в семье ограждают от быта?
— Нет, бывало весело, когда я писал. Кстати, если я начал писать какой‑то текст, даже стихотворный, меня ничто не может отвлечь. Я, конечно, рассеянный бываю. С другой стороны, можно бытовыми делами и придумывая стихотворения заниматься. Можно гулять с собакой, готовить еду — это не отвлекает от придумывания, строчка хорошая может прийти в любой момент, думаешь ты о ней или нет. Можно забыть о тексте на два месяца, а потом нужные строчки появляются в совершенно глупой ситуации. Литература все равно пробивается в любом случае, если она хочет появиться.
Что становится литературой? Взять, к примеру, античную литературу — у нее есть огромный опыт выживания. Мне помнится история про то, как некий римский гражданин выписывал любимые места из чужих книг и собрал в свою — и теперь он классик антички. По этим фрагментам судят об античной литературе вообще, и он считается автором этой книги. Это все непредсказуемо — просто задокументировал, что было интересного, а уже автор.
— Я вижу здесь отдаленную схожесть с ведением дневников, мемуаристикой как фиксацией реальности. Вы ведете дневник, кстати?
— Сейчас нет, а раньше вел. Дневники очень помогают понять, насколько ты честен перед самим собой. В какой‑то момент оглядываешься на них и думаешь: «Господи, перед кем ты так?» Я когда перечитывал старые дневники — сейчас они уже потерялись давно, — оглядывался и понимал, что выделывался перед самим собой этими заметками. И так больше не хочется.
— Это как послание себе самому в будущее!
— Правда, довольно глупое. А ведь кто‑то таким вот образом всю жизнь проживает, не в силах посмотреть на себя настоящего. А вот это — шаг к некоторой честности, хулиганству…
— Вы часто думаете о смерти?
— А кто о ней не думает? В «Опосредованно», кстати, основная связующая сила брака Лены — боязнь умереть и потом разлагаться в комнате одной, эта странная забота о собственном трупе… Мы ведь на самом деле не боимся смерти, боится за нас наш организм. Потому что состояние смерти комфортно: не нужно ни есть, ни пить, ни чем‑то заниматься — полный покой, к которому по идее организм должен стремиться. Но из‑за какого‑то инстинкта самосохранения мы боимся прекратить свое существование. Хотя порой думаешь: «Ну нафига это все нужно?» Мы же боимся исчезновения своего я, хотя оно не такое уж необычное и индивидуальное. Просто мы не знаем о том, как происходит процесс мышления у других людей, поэтому кажемся себе очень особенными.
— Есть прототипы реальных людей в «Опосредованно»?
— Конечно, чаще всего это мои друзья, но, слава богу, они себя переделанными не узнают. Есть там и живые люди, которые упоминаются. Допустим, мне Андрей Санников позвонил и смеялся от восторга, он там упомянут под уголовной кличкой. Да и [Олег] Дозморов себя, наверное, узнает под кличкой Доза. А главная героиня — сборная солянка, впечатление от поэтов, которые рядом, и от самого себя. Бывает, в ссорах с женой ты что‑то отвечаешь, а она делает какой‑то неожиданный вывод — вот тут так же, это как попытка проанализировать все это.
— Любая ссора, как и поэзия, дает возможность интерпретации?
— С ссорами уже скучнее стало, мы примерно знаем, что мы друг другу скажем. Я просто выхожу на улицу, чтобы покурить и не повторяться. Но уже в этом неповторении есть повторение: в этой прогулке по улице, в курении возле подъезда, променаде…

— В ваших текстах, как и в этом вашем рассказе о своей жизни, есть нечто медитативное.
— Писание вообще само по себе — вещь, которую без медитации не постигнуть. Все равно же погружаешься… Даже когда пишешь текст, пусть про что‑нибудь спокойное и безобидное, когда от него отходишь — сердце бьется, как будто бы тебя только что держали над пропастью. Это особенно заметно ночью: когда ты заканчиваешь текст, ты должен вроде бы устать — а ты бодрый, тебя встряхнуло этим актом писания.
— А сюжеты во сне к вам приходили?
— Во сне… Вот идея сделать последнюю главу [«Петровых»] про Снегурочку возникла буквально перед сном. Я обрадовался, потому что это было неожиданно для меня самого.
— А что кроме поэзии и написания текстов приносит вам удовольствие?
— Сериалы. Или компьютерные игры некоторые, чтение.
— А кого читаете? Современников или классиков?
— Всех подряд. Что под руку попадется. Недавно прочитал «Пищеблок» Иванова, а сейчас снова вернулся к Виктору Конецкому. У меня читалка на нем сломалась. Я спер полное собрание сочинений Конецкого из интернета, и читалка внезапно вспухла, как труп в рюкзаке, и умерла. Купил новую и снова начал его заново.
— А как вы как автор относитесь к пиратству?
— Я сам некоторые вещи иногда пирачу. Что уж лукавить, сериалы я не покупаю. Отчасти это обкрадывание, но сейчас так складывается, что люди покупают книги часто из благодарности: вот прочитали хорошую книжку — и купили. Есть масса людей, которые все равно украдут из сети, а есть процент людей, которые все равно купят. Невозможно предугадать.
— Толстые литературные журналы вы все же читаете или только в них публикуетесь?
— Некоторые читаю. Я, кстати, наткнулся в одном из толстых литературных журналов как раз на статью, которая отчасти подтолкнула меня к написанию «Опосредованно», где стихосложение сравнивалось с безобидной зависимостью, типа никотиновой. И я понял, что тучи над идеей сгущаются и сгущались давно, — и я начал спешить, сел писать.
— Вам нравится формат читательских встреч?
— Очень, я с удовольствием отвечаю на вопросы. Мало того что люди потратили время на чтение моих книг, так они еще и пришли — это не всегда же удобно. Бывает, люди проездом в городе — и то приходят на мои встречи! Это трудно недооценить. В Екатеринбурге читательские встречи проходят проще. Я же там живу, поэтому можно и в следующий раз прийти и послушать. А в Петербурге, на удивление, вообще чуть ли не фанатское сообщество сложилось, меня там даже на улице узнали.
Сам я запросто могу людей не узнать. Помню, у нас соседка была с лайкой. Я это хорошо помню, потому что я собачник: у нас ротвейлер, а у них лайка — мы как‑то пересекались в лифте, я так был зациклен на собаке, что я не уверен, что ее выгуливали не разные девушки. Я на улице никогда не узнавал хозяйку лайки. Помню, была еще девочка, которая в разных частях города со мной здоровалась, — я шарахался от нее. А потом мы встретились в лифте, и я понял, что она тоже моя соседка.
— Вы спокойно относитесь к тому, что вас фотографируют?
— Расскажу вам один случай с ММКВЯ. Я обычно не очень хорошо переношу свои фотографии, а тут я наткнулся в сети на фото с того выступления. Я помню момент, когда там фотографировали, — у меня сильно болела голова, я повернулся, чтобы ответить на вопрос, и во время этого я почувствовал, что в голове у меня будто кочергу горячую проворачивают, — подумал, что замечательно, если я в этот момент коньки начну отбрасывать. И меня ровно в этот момент сфотографировали. И так красиво, выразительно получилось — такое лицо умное, одухотворенное…
— Если бы у «Петровых» не было бы такого резонанса, вы бы продолжили тихо писать дальше?
— Да, я упрямый человек и буду писать, пока не сдохну. Потому что меня увлекает это, мне нравится придумывать истории и записывать их. Мне нравится придумывать человека и смотреть на мир его глазами.
— Есть что‑то в книгоиздании, что вам, наоборот, не нравится?
— Все эти обложки зацелофаненные с возрастной маркировкой 18+ — это какая‑то глупость совершеннейшая, все равно все закончится тем, что их отменят. Я понимаю, что возрастные цензы — это общемировая практика, но все равно.
— Это ограничивает вашу свободу? Вам вообще комфортно в современных политических реалиях?
— Государство само себя обложило несколькими решетками, и в эти решетки все тычут и проверяют, насколько государства хватит. Как зверя. С одной стороны, нельзя пропагандировать наркотики и гомосексуальность, критиковать какие‑то религиозные вещи и использовать мат — и иногда даже это воспринимается как возможность прославиться. Можно попробовать начать с мата, насилия и экстремизма. А писать про политиков мне лень как‑то, им и так слишком много внимания ежедневно уделяется. Я некоторые газеты перестал читать, потому что каждый раз там про Путина — я лучше что‑нибудь другое почитаю. С одной стороны, его критикуют, а с другой — это прям пиар, в каждой статье замешан Путин каким‑то образом, это утомляет.
У русского народа есть ожидание некой идеологии, которой можно увлечься: более интересной, чем коммунизм или капитализм в нынешнем виде или в таком, в каком где‑либо он существует. Люди хотят чего‑то нового, чтобы опять чем‑то очароваться, перемолотить всю страну и перестрелять друг друга. И когда‑нибудь это произойдет, скорее всего, — у нас очень увлекающиеся люди.
— Какое для вас идеальное государство как для писателя?
— Писать можно в любом месте, в любое время. Происходящее извне не мешало писать людям в сталинское время — то есть мешало, но примерно в той же мере, что и сейчас. Всегда была некая цензура, и за рубежом тоже не обо всем можно писать, чтобы не прилетело, — есть все-таки некие табуированные темы в любой стране. Я помню, кажется, в Латвии женщина написала книгу о холокосте и участии в нем латышей — и в своей стране она подверглась обструкции. Это были гонения не на государственном уровне, а просто на читательском, людям не понравилось читать такое. Мне кажется, это общемировая тенденция — никому не нравится читать плохое о своем народе.
— Вы когда‑нибудь сталкивались с цензурой?
— Все-таки да. Когда я писал в журнал «Волга» своих «Петровых в гриппе», я думал о том, что было бы нехорошо, чтобы журнал оштрафовали за мат, и приходилось его убирать. В первой главе «Петровых» мужчины разговаривали сплошь матом, как и полагается пьяным. Но пришлось это убрать; к счастью, книга от этого не сильно пострадала, зато мне уже потом в книгу удалось вставить, в конец «Петровых», такое выражение, которым пользовалась моя мама, не знаю, где она вообще его взяла!
Поскольку книги закатывают в полиэтилен, с ними в этом плане проще. Но я ведь очень счастливый человек. Как в «Отделе» кто‑то говорит, что людей и за меньшее сажают. У нас ведь такое лотерейное право: кто‑то картинку репостнул, и его посадили, а кто‑то делает все — и ничего. У нас такая лотерея, и я, видимо, пока ее победитель. Никто не кричит, что «Опосредованно» — пропаганда гомосексуализма и наркотиков, хотя докопаться можно при желании и до столба.