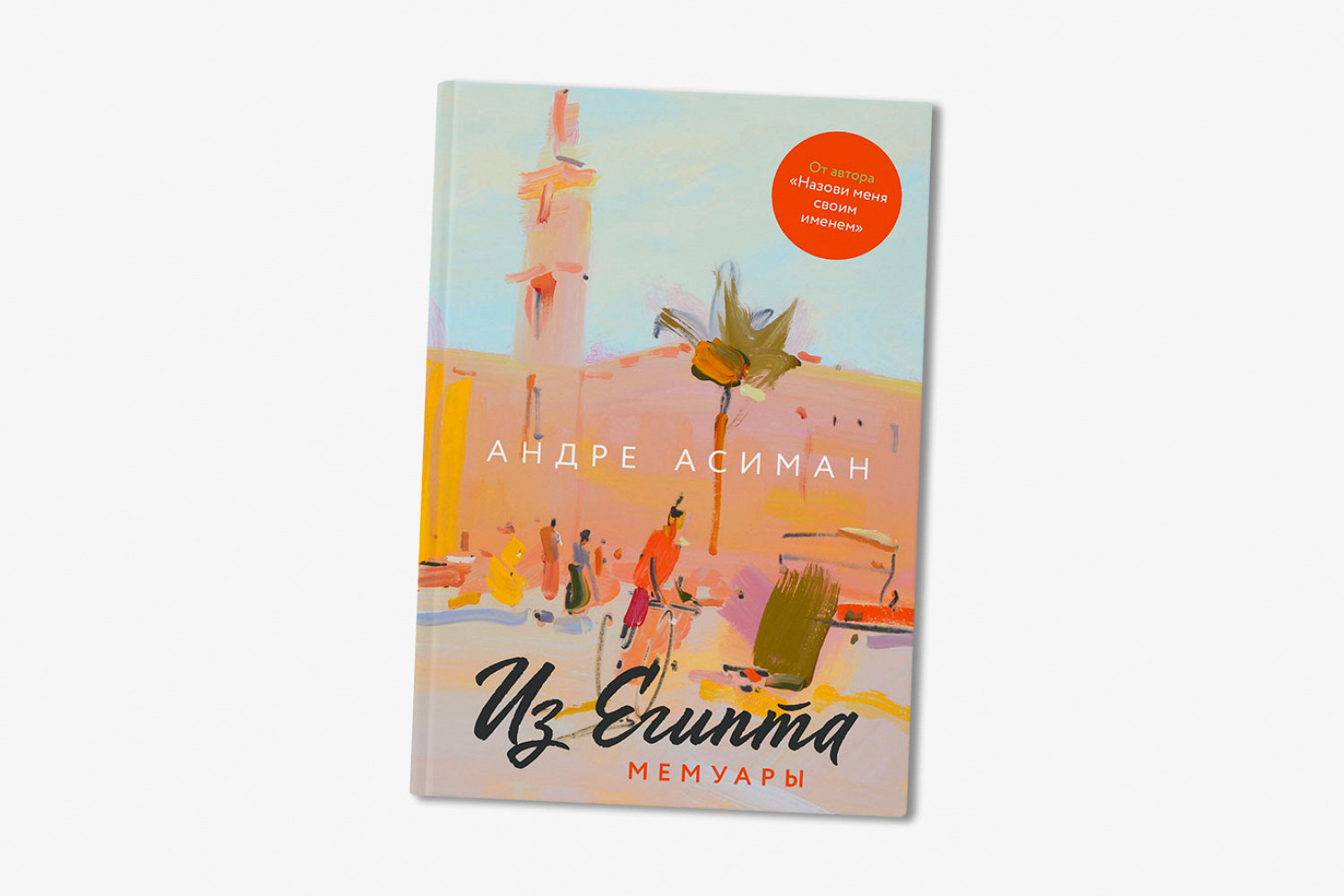— Сядь и выслушай меня, как большой мальчик, — велел отец в тот вечер, когда принесли ордер. — Слушай внимательно.
Я чуть не расплакался. Папа заметил это, впился в меня взглядом, взял за руку и сказал:
— Ладно, поплачь.
Я почувствовал, как у меня задрожала нижняя губа, а за ней и подбородок. Я попытался пересилить себя, прикусил язык и помотал головой — мол, не буду плакать.
— Я понимаю, это нелегко. Но мне нужно, чтобы ты это сделал. Потому что меня завтра явно арестуют, — проговорил отец. — Главное — помоги маме все распродать, проследи, чтобы все, что можно, сложили в чемоданы, и купи билеты для нас всех. Это проще, чем ты думаешь. Я хочу, чтобы вы уехали, даже если меня задержат. Я вас потом догоню. В Европе передашь весточку дедушке Вили и дедушке Исааку.
Я пообещал, что запомню.
— Да, но я хочу зашифровать оба сообщения, вдруг ты все-таки забудешь. Это займет час, не больше.
Отец попросил принести книгу, которую я хочу взять с собой в Европу и буду читать на корабле. Таких оказалось две: «Идиот» и «Греки» Китто.
— Неси Китто, — велел отец, — мы подчеркнем все якобы трудные для тебя слова: если на таможне полезут в книгу, подумают, что ты выделил их, чтобы посмотреть в словаре. — Он пробежался глазами по первой странице книги и подчеркнул «фракийцы», «роскошный», «варвары», «скифы» и «Экклезиаст».
— Но я же знаю, что это значит.
— Какая разница, что ты знаешь? Главное — что они подумают. Экклезиаст — хорошее слово. Тебе нужна пятая буква каждого пятого подчеркнутого слова — то есть в данном случае «е», остальные отбрось. Это шифр в лидийском ладу, понял?
К двум часам ночи мы написали пять предложений. Все давным-давно легли. Кто‑то притушил лампу в прихожей и погасил свет во всем доме. Отец предложил мне сигарету. Отдернул шторы, которые были закрыты, чтобы никто снаружи не подсмотрел, чем мы занимаемся, и распахнул окно. В столовую повеял весенний ветерок; папа вглядывался в ночь, облокотившись о подоконник и оперев подбородок о ладони.
— Городок небольшой, но как же не хочется с ним расставаться, — наконец признался он. — Где еще увидишь такие звезды? — И, помолчав, уточнил: — Ты готов к завтрашнему дню? Я кивнул, посмотрел на папино лицо и подумал: а ведь его могут пытать, и я никогда больше его не увижу. Я заставил себя поверить в это: может, тогда ему повезет.
— Значит, спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — ответил я и спросил, собирается ли папа ложиться спать.
— Нет, пока нет. А ты иди. Я еще останусь, подумаю.
Он говорил мне эту фразу много лет назад, когда мы навещали могилу его отца: тогда папа вот так же молча опустил подбородок на руку и локтем оперся о мраморную плиту. Я забросал его вопросами о кладбище, о смерти, о том, что делают мертвые, когда мы о них не думаем. Он терпеливо ответил на каждый: мол, смерть похожа на спокойный сон, только очень долгий, с длинными мирными видениями. Когда я, притомившись, попросил: пап, пойдем, он ответил — подожди, я еще останусь, подумаю. Перед тем как уйти, мы оба наклонились и поцеловали надгробие.
Наутро я проснулся в шесть часов. Список дел получился длинным. Сперва в туристическое бюро, оттуда в консульство, потом дать телеграммы всем в разные страны мира, потом к агенту, который должен подкупить таможенников, потом переговорить с синьором Розенталем, ювелиром, чей зять живет в Женеве.
— Если он прикинется, будто не понимает, о чем ты, не расстраивайся, — напутствовал меня отец.
После этого мне нужно было встретиться с адвокатом и ждать дальнейших распоряжений.
Мне сказали, что папа ушел чуть свет. Маме поручили купить чемоданы. Бабушка взглянула на меня и пробормотала что‑то о моей одежде, особенно об этих «длинных синих штанах в медных заклепках».
— Каких еще заклепках? — не понял я. — Вот этих, — бабушка указала на мои джинсы.
Я залпом допил приготовленный ею апельсиновый сок, выбежал из дома и запрыгнул в трамвай до центра, чего прежде никогда не делал, поскольку американская школа находилась в другой стороне. Я вдруг почувствовал себя взрослым, который едет на работу, и это новое ощущение приятно щекотало мне нервы.
Тем весенним будничным утром небо над Александрией, как обычно, усеивали облачка. Ветер доносил с побережья свежий солоноватый запах, торговая суета с основных магистралей выплескивалась в узкие переулки, где на базарчиках под полосатыми желто-зелеными тентами толпился у прилавков народ, шумели и толкались продавцы побрякушек. Затем, как всегда в некий миг перед тем, как солнечный свет хлынет на плитку, все успокоилось на время, улицы овеял прохладный бриз, и очищенный воздушный свет окутал город, яркий, но не слепящий, — свет, на который можно смотреть.
Продления паспортов в консульстве долго ждать не пришлось: человек за конторкой был знаком с моей мамой. Служащий туристического бюро и вовсе оказался осведомлен о наших планах. Уточнил лишь: «Куда вы хотите, в Неаполь или в Бари? Из Бари можно отправиться в Грецию, из Неаполя в Марсель». Я представил себе заброшенный греческий храм на берегу Эгейского моря. «В Неаполь, — ответил я, — только дату пока не ставьте». — «Понимаю», — сдержанно ответил служащий. Я добавил, что, если он позвонит по такому‑то номеру, ему передадут деньги. Вообще-то у меня были с собой наличные, но мне было велено тратить их лишь в случае крайней необходимости.
А вот на телеграфе я провел целую вечность. Здание было старое, темное, грязное: роскошный колониальный особняк понемногу превращался в развалину. Телеграфист за стеклом заявил, что телеграмм чересчур много, слишком много адресов во множестве стран на множестве континентов, уставился на меня с подозрением и велел убираться. Я не ушел. Он пригрозил, что врежет мне. Я же, набравшись смелости, ответил, что мы друзья Такого‑то (это имя было в новостях), и раздражение телеграфиста мгновенно сменилось той неподражаемой елейной любезностью, которая на Ближнем Востоке сходит за почтительность.
К половине десятого я искренне собой гордился. Осталось выполнить всего одно поручение — и к синьору Розенталю. Все знали, что Франко Молко, агент, который должен был подмазать таможенников, и сам на руку нечист: он клялся и божился, будто бы ему хитрости не хватит обмануть кого бы то ни было, и этим-то всех обманывал. «Я никогда не скрываю своих намерений, мадам». Он держался неприветливо, даже грубо и был не прочь в гостях прикарманить понравившуюся вещицу прямо на глазах у хозяев. Если у него эту вещь отбирали и ставили на место, как поступила моя мать, — можно было не сомневаться, что он стащит ее после, на таможне, причем опять-таки у вас на глазах. Франко Молко обитал в гараже, из которого вынесли инструменты, поставили самодельный топчан и разбитую раковину; на полу валялись покрытые копотью коробки передач. Молко намерен был поторговаться. Я этого делать не умел и передал ему папины указания. «Вас, евреев, не переторгуешь», — усмехнулся он, и я покраснел. На улице мне захотелось выплюнуть чай, которым угостил меня Молко.
И все же я считал себя спасителем семейства. В воображении моем мелькали затейливые сценарии, в которых я стучал по столу начальника полиции и грозил ему страшными карами, если моего отца сей же час не отпустят. «Немедленно! Сейчас! Сию секунду!» — орал я, хлопая ладонью по инспекторскому столу. Бабушка Эльза говорила, что таких людей нужно третировать, как слуг, и тогда они будут вести себя соответственно. «И принесите стакан воды, мне жарко». Я продумывал планы секретных поручений, которые мне еще доверят, как вдруг меня окликнули. Это был отец.
Он возвращался от цирюльника и шел не спеша, направляясь в свое любимое кафе в здании фондовой биржи.
— Почему ты не в тюрьме? — спросил я, с трудом скрывая разочарование.
— В тюрьме? — воскликнул папа, словно хотел сказать: «Это еще что за глупости?» — Мне лишь хотели задать несколько вопросов. Доносы, все ложные доносы. Ты сделал все, что я сказал?
— Все, кроме синьора Розенталя.
— Вот и хорошо. Об остальном я позабочусь. Кстати, что Молко, согласился?
Я ответил утвердительно.
— Замечательно. — И, спохватившись, уточнил: У тебя деньги с собой?
— Да.
— Тогда пошли. Угощу тебя кофе. Ты ведь пьешь кофе? А деньги передашь мне под столом.
Мимо прошла молодая женщина, и отец обернулся.
— Видал? Вот это я называю идеальными лодыжками.
В кафе отец представил меня присутствующим. Все эти дельцы, банкиры, промышленники собирались тут каждое утро около одиннадцати. Все они лишись состояния или вот-вот должны были его потерять.
— Он даже прочел «Жизнеописания» Плутарха, — похвастался отец.
— Прекрасно, — откликнулся один из посетителей, судя по акценту, грек. — Значит, ты наверняка помнишь о Фемистокле.
— Разумеется, помнит, — ответил отец.
— Тогда я тебе объясню, как Фемистокл выиграл Саламинское сражение, потому что об этом, мой дорогой, тебе в школе не расскажут. — Мосье Панос достал паркеровскую ручку и принялся рисовать на уголке газеты боевой порядок кораблей. — А знаешь, кто мне все это объяснил? — спросил он, и подернутые пеленой глаза его блеснули самодовольством. Мосье Панос взъерошил мне волосы. — Знаешь кто? Да никто, я сам во всем разобрался, — сказал он. — Потому что мечтал стать адмиралом греческого флота. А потом выяснилось, что в Греции нет флота, так что во время сражения при Эль-Аламейне я вынужден был пойти служить в Красный Крест.
Все расхохотались, а за ними и мосье Панос — хотя, может, и не понимал, отчего они смеются.
— У меня до сих пор хранится «люгер», который мне отдал умирающий немецкий солдат. В нем осталось три пули, и теперь я точно знаю, для кого они. Первая для президента Насера. Вторая для моей жены, потому что, видит Бог, она это заслужила. А третья для меня. Jamais deus sans trois. — Тут все снова грохнули. — Не так громко, — предостерег их грек, но я все равно хохотал от души. Вытирая глаза, я заметил, как один из мужчин коснулся папиной руки. Этот жест не предназначался для моих глаз, но я увидел, что отец беспокойно обернулся на столик позади. Там сидела та женщина с красивыми щиколотками.
— Ты ничего не хочешь мне сказать? — папа хлопнул меня по коленке.
— Вообще-то, я утром собирался пойти в бассейн.
— Так и иди, — ответил он и забрал деньги, которые я незаметно передал ему под столом. — Прямо сейчас и ступай.