«Я был последним, кто понял, что ошибается, считая Ленина хорошим»
— Расскажите о своем детстве. Какой была Москва пятидесятых?
— В паспорте у меня написано, что я родился в ЧимкентеС 1992 года — Шымкент., но мама меня всегда уверяла, что это произошло в Москве. Тайна эта покрыта мраком. Мой папа был армейским офицером и познакомился с мамой в Москве, куда приехал по своим военным делам, а мама училась на истфаке. У них вышла большая любовь с первого взгляда. Три года они прожили в Чимкенте, а потом что‑то не сладилось, и мы втроем перебрались в Москву. Сначала мы некоторое время жили у бабушки с дедушкой: у них была отдельная квартира, в которой ютилось невероятное количество народу. А еще года через три нам дали свое жилье в Чистом переулке, где прошло почти все мое детство. Это переулок, отходящий от Кропоткинской улицы, ныне Пречистенки, и в соседнем с нашим доме жил и живет Патриарх всея Руси. Сейчас это Кирилл, а тогда был другой.
Я думаю, какой‑то смысл был в этом соседстве, потому что оно, наверное, заряжало меня непонятной мне еще тогда энергией. Жилье, которое дали родителям, было подвальной комнатой; соседей у нас было человек двадцать, кухня была коммунальная. Но зато там был газ — большое для того времени счастье: никаких керосинок и примусов. Был также телефон — еще большее счастье, он стоял в коридоре, откуда слышались голоса: «Тебя к телефону, Анна Ивановна!» И все шли туда в своих шлепанцах разговаривать, писали номера телефонов на стене грифельным карандашом. Это все было ужасно трогательно.
У меня очень живо эти картины детства встают перед глазами. Я вижу эти московские дворы, которых больше не осталось, — какими они были красивыми.
— Какие тогда были развлечения у детей?
— Я помню Первое мая, мне было лет семь. Играла праздничная музыка, по улице КропоткинскойДо 1921 и с 1990 года — Пречистенка. шла колонна демонстрантов. Мне все это ужасно нравилось. Я стоял и смотрел на демонстрантов завистливым взглядом, и вдруг кто‑то меня посадил на тележку и довез до Красной площади. Это был один из самых счастливых дней моей жизни… Были тогда роскошные шарики: их наполняли водородом. Обычный шарик стоил пять копеек, а водородный — десять. Когда шарики улетали в небо, это было божественно красиво и печально.
В праздники на улицы высыпали какие‑то недобитые частные торговцы, продавали леденцовых петушков и такой помпончик из жеваной бумаги, который был обернут фольгой и прикреплен к резинке. Была еще игрушка «тещин язык»: трубочка, в которую ты дул, и она высовывала длинный шутовской бумажный язык — это казалось очень смешным. В какой‑то момент у нас появился телевизор: экран размером с почтовую открытку, вдобавок он все время ломался.
Помню еще ужасно трогательные предметы детства — например, линзу для телевизора. Это отживший предмет, его больше нет и никогда не будет. В линзу наливалась вода, и она раза в полтора увеличивала экран. У людей побогаче были пластиковые линзы, в которые не нужно было наливать воду, и это было лучше, так как в обычных, стеклянных, обязательно заводились водоросли.
— Вам нравилось учиться в советской школе?

— Я учился в очень хорошей школе. Мой папа, который, между прочим, по крови — ишан Южного Казахстана (это верховный священник, нечто среднее между аятоллой и старцем у суфийских мусульман), фактически был в Москве иммигрантом, и ему было очень трудно, это я сейчас понимаю. Но когда он услыхал, что во Вспольном переулке открывается английская спецшкола, он перевернул горы, чтобы меня туда устроить. Там я учился с детьми больших людей, отчего у меня возникли жуткие комплексы бедности. Надеюсь, что я их уже преодолел — не потому, что стал богатым, а потому что не нужно быть богатым… Там хорошо преподавали естественные науки и английский. Тут есть нюанс: я хорошо знаю английский, но до конца жизни буду говорить с акцентом, так как наши советские учителя говорили с доморощенным произношением. Разумеется, они не виноваты: никто из них никогда не бывал за границей и, наверное, даже не встречал носителей языка.
— В вашей семье говорили о политике?
— Никогда. Меня потом не раз спрашивали: «Как же так, ты ненавидишь советскую власть, а твой папа был коммунистом?» Я говорил: «Я не Павлик Морозов, папу я люблю. Если он вступил в КПСС на фронте, в окопах, кто я такой, чтобы его осудить?» Я начал понимать, что творится вокруг, только годам к пятнадцати.
Но вообще среди моих нынешних близких друзей я был последним, кто понял, что ошибается, считая Ленина хорошим. Однажды, уже учась на химфаке МГУ, я столкнулся с Яшей Малкиным. Это мой друг, большой ученый и очень умный человек. И вот я спрашиваю: «Яш, а ты правда считаешь, что коммунизм — это порочная идея?» Яша посмотрел на меня, как на говорящую игуану, и сказал: «А как ты можешь думать иначе?» Но тогда, поверьте, это было не общее место.
— Как вы заинтересовались химией?
— По принципиальным соображениям. В школе у меня была замечательная учительница русского языка Нина Ивановна, она ужасно любила меня за мои сочинения и говорила, что я должен пойти на филфак и стать писателем. Но я решил, что интереснее заниматься техническими науками, и записался в химический кружок во дворце пионеров на Ленинских горах, участвовал в олимпиадах и даже занял как‑то второе место по Москве. Я тогда придумал одну умную фразу, которая сейчас кажется мне чрезвычайно глупой. Когда меня спрашивали, почему вдруг химия, я с важным видом говорил, что гуманитарные науки слишком антропоцентричны, а естественные науки ищут объективную истину.
«Я мог и ругнуть стишки — я же не знал, что они станут классикой»
— Вы начали писать стихи еще в школе?
— Тогда я писал веселые стишки, не очень серьезно. Я очень любил стихи, носился с ними, читал то, что было доступно советскому подростку: Вознесенского, Евтушенко, был еще у меня томик [Игоря] Северянина и томик [Семена] Надсона. Кстати, я все хочу о них написать, потому что оба они считаются массовыми поэтами и среди так называемого моего круга к ним принято относиться с негодованием. Но это неправильно. Во-первых, Северянин не массовый, а Надсон под конец жизни стал вырываться в настоящую поэзию. И совсем копья ломаются вокруг [Эдуарда] Асадова, потому что его считают демоном, воспитателем дурного вкуса и советской морали. У меня руки опускаются, когда я это слышу.
На этом уровне поэтического ширпотреба Асадов, который проповедует нормальные моральные ценности и красоту на уровне гобеленов с лебедями, — лучше, чем многие. У него нет совершенно никакой агрессии и ненависти. А если к этому добавить, что я не могу без благоговения относиться к человеку, который потерял зрение в горящем танке, то разговор окончен.
В девяностые я пытался весь свой тогдашний авторитет пихнуть на то, чтобы добиться хотя бы одной публикации Асадова в толстом журнале, пока он был жив. Все мне вежливо говорили «Да-да, конечно», но никто этого так и не сделал. Какое‑то в этом есть идиотское высокомерие. А жалко, потому что старик бы очень обрадовался.
Вообще интересно, как любовь или нелюбовь к разным авторам разъединяет людей. Возьмем такого человека, как недавно скончавшийся Лимонов. Несколько раз я получал чудовищную взбучку от своих корреспондентов — сначала в ЖЖ, потом в фейсбуке, — когда с восторгом вывешивал его стихи. Лимонов в период с 1969 по 1974 год написал несколько книжек гениальных стихотворений. Дальше он предпочел стать прозаиком, международным авантюристом и лакеем нынешней власти, ну а литература-то здесь причем? Я честно написал, что при встрече не подал бы ему руки. Но стихи-то чем виноваты?
— Когда вы начали писать стихи всерьез?
— Я точно знаю дату: это было 4 января 1969 года. Я получил путевку в профилакторий МГУ. Что это такое? Это небольшой кусок красивого здания университета, где много маленьких кабиночек. Путевку давали на двадцать четыре дня, и стоило это шесть рублей — остальное доплачивал профсоюз. Там тебя кормили три раза в день, делали физиотерапевтические процедуры. Но главное — что у тебя было шесть квадратных метров личного пространства. Для тогдашнего советского человека это была немыслимая роскошь. До этого никогда в жизни у меня не было частного пространства: я жил сначала в одной комнате с родителями и сестрой, потом нам дали на четверых двухкомнатную квартиру-коробочку с трехметровой кухней. Я вообще не знал того, что называется privacy. И вдруг я нахожусь в этом прекрасном имперском здании со встроенной мебелью великолепного дерева. А я уже давно говорил друзьям, что смогу сесть и написать гениальное стихотворение, но все не было случая. И вот он представился: я сижу в профилактории — накормленный, напоенный — и решил самовыразиться.
Я взял библиотечное требование, которых потом наворовал огромное количество: в условиях бумажного дефицита в СССР это была невероятная вещь — маленький листочек размером с четвертушку обычной страницы из мелованной бумаги. Ни за какие деньги ничего подобного купить было нельзя! А на оборотной стороне можно было писать. И вот я сел и написал стихотворение, а потом еще одиннадцать, получился цикл. Я стал самым счастливым человеком на свете. Потом я показал стихи Яше Малкину, который хорошо знал поэзию, и сказал: «Яш, я понимаю, что они несовершенны. Но согласись, насколько же они лучше всего, что печатается в советских журналах?» Яша сказал: «Нет, хуже». Я очень обиделся, но занятий этих не прекратил до сих пор.
— Как вы создали литературную группу «Московское время»?
— Это случилось не сразу, конечно. Сначала произошло историческое событие: в МГУ открылась литературная студия «Луч» под руководством Игоря Волгина. В ее стенах никогда не говорили о политике и гражданском долге поэта, что по тем временам был подвигом, и там царила потрясающая атмосфера. Игорь Леонидович был без преувеличения гениальным преподавателем: ему было всего лет двадцать пять, но нам он казался старичком. Он был последним приличным поэтом, которого приняли в Союз писателей.
Тут нужно рассказать современному читателю, что это такое и почему это так важно. Во-первых, членство в СП защищало от закона о тунеядстве — иначе тебя могли, как Бродского, выслать. Во-вторых, это означало какие‑то денежки: можно было работать литконсультантом, ездить на выступления. После Волгина на фоне изменившегося политического климата в СП стали принимать только отморозков, авторов каких‑то агиток.
В студии я встретил моих будущих ближайших друзей: Александра Сопровского, Сергея Гандлевского —и в какой‑то момент подтянулся Алеша Цветков. И началась эта безумно прекрасная жизнь.
Когда я жил в Тушино у своей первой жены, иногда в час ночи меня будил телефонный звонок, и кто‑то из этих троих говорил: «Бахытик, я тут новый стишок написал. Можно, я тебе прочту?» И это было такое счастье! Я даже мог и ругнуть стишки — я же не знал, что они станут классикой. И вот с этими моими друзьями мы пили вместе довольно долго и вели интеллектуальные беседы, а потом решили это дело как‑то формализовать. Сначала организовали дома у нашей поклонницы Лены литературные семинары, которые назывались «Ленинские субботники»: там читали стихи, делали доклады. Потом напечатали антологию «Московское время» — название это придумал Сопровский. И так же назвали наше объединение.
— Вы хотели публиковаться в советских журналах?
— Конечно, я мечтал о славе! Чего вы хотите от двадцатилетнего мальчика? У Цветкова и у меня было по одной публикации в «Юности» в одном и том же году — кажется, в 1972-м. Мои стишки были изуродованы, но публикация в «Юности» в те годы с точки зрения статуса — это было больше, чем сейчас получить премию «Поэт». Тираж ее был около двухсот тысяч, и это была слава. Еще меня напечатали в «Московской правде», «Московском комсомольце», и все шло хорошо: я думал, что скоро у меня будет домик в Переделкино, в писательской колонии.
Я настолько хотел домик в Переделкино, что написал девять так называемых «паровозов». Это редакционный термин, означающий идеологически выверенное стихотворение, к которому можно пристегнуть прицепом несколько лирических. И вот я написал девять таких и принес их в «Юность». Про себя я назвал это «Операция «Свинопас»: решил, что смогу их всех перехитрить. Литконсультант в редакции прочел эти стихи, поднял на меня исполненные тоски глаза и сказал: «Бахыт, вы сошли с ума или что? Я не хочу, чтобы меня выгнали с работы с волчьим билетом».
— А как надо было? Что вы сделали не так?
— Надо было быть искренним и не так очевидно ухмыляться про себя. Так что не удалось мне подружиться с левиафаном. Тогда я начал печататься за границей, причем это получилось по недоразумению. Стишки мои каким‑то образом попали в журнал «Континент», выходивший в Париже, а одно мое стихотворение даже прочли вслух по радио «Свобода». Среди известного контингента читателей это означало немедленную славу. Ну а с этого контингента ничего не возьмешь, кроме разве что секса. И меня тут же пригласили на встречу сотрудники КГБ и стали спрашивать, как же это я напечатался в антисоветском издании. Это происходило в номере гостиницы «Россия», и габэшниками были два здоровых лба, которые могли бы сейчас быть офисным планктоном. Один был добрый, а другой злой, как полагается. Я утверждал, что я советский человек и не знаю, как мои стихи попали за границу. А они говорят: «Раз вы, Бахыт Шкуруллаевич, — советский человек, мы хотим вам помочь. У вас есть друзья, и вы, наверное, им тоже хотите помочь? Мы сейчас подпишем бумажку, и вы будете нам рассказывать, где ваши друзья ошибаются, а мы им поможем». Понимаете, да? Вербовали меня. Потом состоялся гениальный разговор. Они уже думали, что поймали лоха. Говорят: «Ну че, будем подписывать бумажку?» Я говорю: «Не будем». — «Ну как же так? Вы же советский человек». — «Советский, но подписывать не буду». Тут вступает злой следователь и говорит: «Вы же понимаете, что печатать вас больше не будут? И работать в МГУ вы не будете». — «Понимаю, но подписывать не буду». У них были очень кислые рожи, когда мы расставались.
«Ну что, крокодилы, явились?»
— Кем вы работали в МГУ?
— В какой‑то момент, еще учась на химфаке, я разлюбил химию. Я взял академотпуск на год, потом вернулся и решил, что пойду на самую презираемую кафедру на химфаке — коллоидной химии. Это маргинальная наука, которая находится на стыке химии и физики, и к тому же друзья мне порекомендовали Владимира Юрьевича Траскина, который был там старшим научным сотрудником. Я пошел к нему, мы друг другу понравились, и он предложил сделать у них диплом. И я увидел, что оказался в раю: две лаборатории, 130-я и 122-я, были невероятным заповедником нормальной жизни.
Основателем кафедры был академик Ребиндер, человек, по чистоте души, уму и таланту сравнимый с Корнеем Ивановичем Чуковским. По окончании МГУ я остался работать на кафедре. Что интересно, после того разговора с габэшниками печатать меня действительно перестали, но с работы не уволили. И вот я сидел там и что‑то химичил за свои сто пять рублей в месяц.
Там была еще Ляля Максимова — божественной красоты рыжая женщина с роскошными формами, невероятным интеллектом и вкусом: она была женой Перцова и пряталась там от жизни на самой низкой должности препаратора, при этом была душой кафедры. И вот помню такую сцену: заходят ко мне пьяные, лохматые Цветков, Сопровский и Гандлевский и жадно смотрят на Лялечку. Надо сказать, что она уже знала цену их стихам. И Лялечка говорит примерно такой текст: «Ну что, крокодилы, явились? Спирта хотите?» Открывает сейф и наливает нам поллитра спирта; мы забираем его, разбавляем водой и идем в парк возле биологического факультета. Красота!
— А когда вы стали делать свой знаменитый самогон из морилки?
— Году в 1977-м или 1978-м. Злые языки говорят, что половине своей репутации как поэта я обязан друзьям, которые считают себя обязанными петь мне дифирамбы, потому что они за мой счет пили. Это гнусная ложь!
История была такая. Мой любимейший друг Петя Образцов, однокурсник по химфаку, как‑то сделал невероятное открытие: Ужгородский завод лакокрасочных изделий изготовлял продукт, который назывался «Морилка для мебели» и стоил 65 копеек за поллитра, в то время когда бутылка водки стоила три рубля.
У меня был доступ к роскошным самогонным аппаратам — один из них я скоммуниздил на химфаке, установил у себя на кухне и начал гнать спирт. Расскажу об экономике этого производства. Покупаешь бутылку морилки, из нее получается четыреста грамм чистого спирта после двух перегонок, а из этого получается литр водки. Не считая газа, который был в СССР практически бесплатен, ты получаешь бутылку водки за тридцать копеек вместо трех рублей.
Промысел мой пользовался большим спросом. Денег я на нем, конечно, не зарабатывал: во-первых, не хотел сесть в тюрьму, а во-вторых, спирт выпивали быстрее, чем я его гнал. Был такой случай: я уезжал в Питер и оставил ключи от квартиры в Тушино Сопровскому и Гандлевскому. И сказал им: «Оставляю вам на два дня два литра спирта. Вам не может не хватить, поэтому аппарат не трогайте». Возвращаюсь: они пьяные, а аппарат включен. Причем они ждут, пока наполнится стакан первой фракцией, чтоб его немедленно выпить. А его пить нельзя — это жуткая гадость! Оказалось, спирт они выпили в первый же день, а потом начали истощать мои запасы морилки. Все это закончилось, когда морилку перевели на изопропиловый спирт.
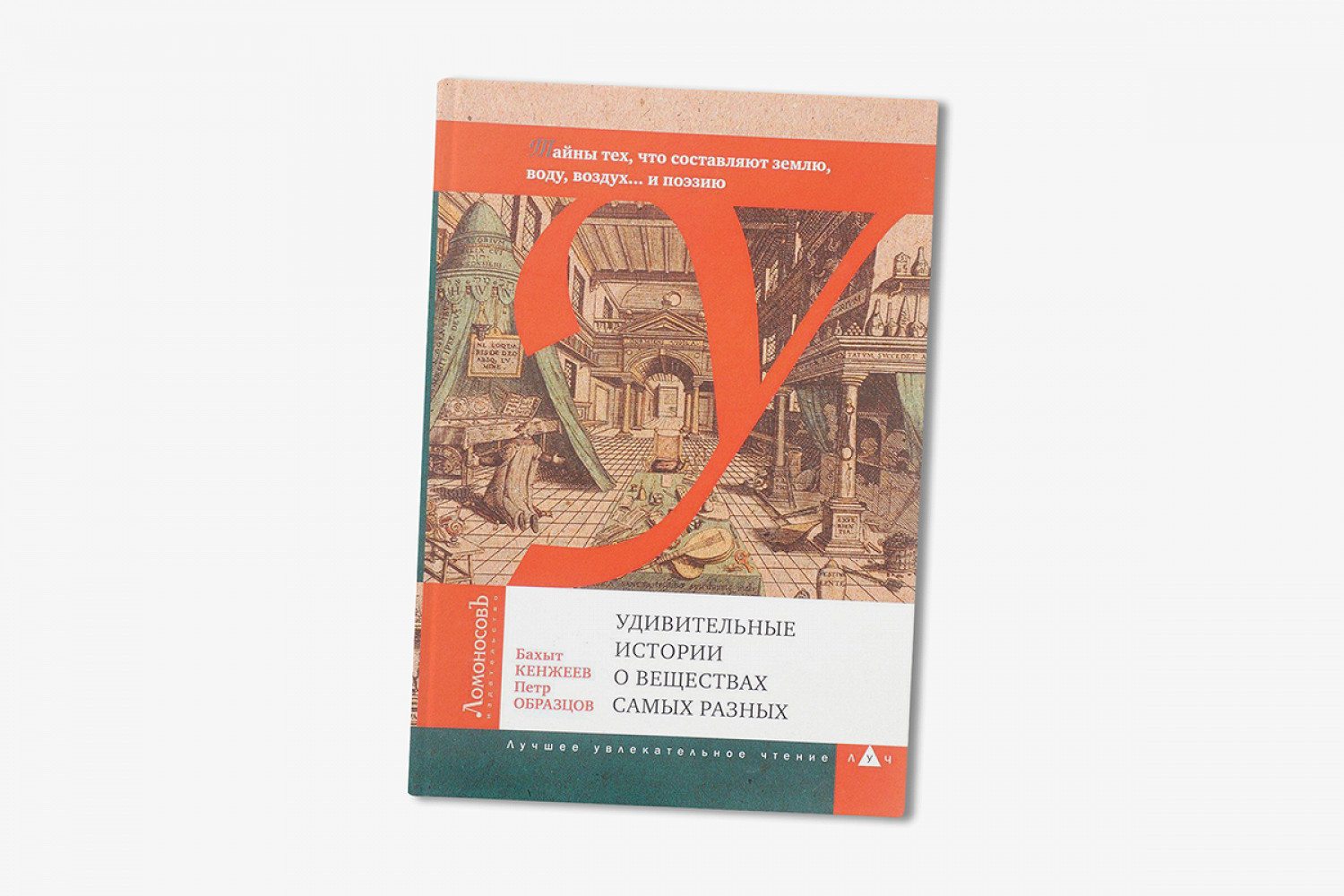
«Большая часть моего времени проходила в доставании продуктов»
— Как вы уехали из СССР в Канаду?
— Есть люди, которые считают, что я специально женился на канадке, чтобы уехать за границу, но это не так. Мы с Лорой — или Лаурой, как я ее называл — познакомились в Москве, где она училась по обмену. Надо сказать, что Леша Цветков уже уехал на Запад, и когда я предложил Лоре выйти за меня замуж, она сказала: «Я не уверена в своих чувствах, но знаю, что ты хочешь уехать за границу. Давай заключим фиктивный брак? Я тебя вывезу, и мы останемся добрыми друзьями». Я сказал: «Нет, либо всерьез, либо никак». Через какое‑то время она все-таки решила выйти за меня замуж по-настоящему, и я сообщил ей: «Знаешь, я не хочу, чтобы хоть какая‑то сволочь сказала, что я женился на тебе по расчету. Поэтому остаемся в Москве, я помогу тебе найти работу».
Лора нашла работу в издательстве «Прогресс». Она удивительный пример человека, у которого безупречный выученный русский язык. Ее бабушка была русской, но никогда не говорила на родном языке. Лора выучила русский в университете, а потом прошла несколько стажировок в Москве. Сейчас она работает завкафедрой русского языка в Макгильском университете в Монреале.
Ее задачей было излагать хорошим английским языком дурно переведенные советские агитки. Но не только: например, она перевела роман Чернышевского «Что делать?». Я по праву могу считаться соавтором этого перевода: я служил ходячим справочником для Лоры и очень много сил положил на этот роман. Чернышевский был фантастически плохим писателем, а у Лоры безукоризненное чувство стиля. Она изложила роман нормальным английским языком и очень этим гордилась, но когда ее перевод опубликовали, в американском славистском журнале вышла ругательная рецензия. Они написали, что роман Чернышевского — это памятник эпохи, и, поскольку это плохой роман, нужно было перевести его плохо! Я с этим не согласен.
— Лоре нравилось жить в Москве?
— Я думаю, сейчас она понимает, что это были, может быть, лучшие годы ее жизни, но тогда она очень сердилась на то, что у нее нет того, нет сего — и не только в материальном смысле. Она привыкла к каким‑то своим западным штучкам, которые раньше казались ей само собой разумеющимися, а в тогдашней Москве были проблемой. Поэтому большая часть моего времени проходила в доставании продуктов. Мне самому очень хотелось съездить в Канаду и посмотреть, как там все устроено, потому что я ни разу не бывал за границей. И вот сестра Лоры пригласила нас на свадьбу, и я начал собирать пакет документов в ОВИР — отдел виз и регистраций. Нынешнему читателю не понять, что это было такое.
— Расскажите, что это были за документы?
— Туда, например, входила характеристика, в которой меня бы рекомендовали для поездки за границу. Ее должны были утвердить в парткоме, профкоме и еще каком‑то -коме МГУ и подписать ректор университета и секретарь патркома — большие люди. Каким‑то чудом я получил эту бумажку: клянусь, что ее получение стоило мне четырех месяцев полного рабочего времени и страшных унижений, о которых я больше никогда не хочу вспоминать. Но я собрал эти документы и подал их в ОВИР; в выезде мне отказали. Второй раз делать это я уже не пытался.
А потом произошло следующее: посадили одного писателя, и мы с друзьями выступили в его защиту. Надо сказать, что наша с Лорой квартира была маленьким островком свободы: у нас паслись лучшие писатели Москвы, бывала запрещенная литература. И вот Лора поехала в Ленинград на выходные, а в пять утра в субботу, когда она была в поезде, в квартиру ворвались пять человек габэшников и начали все перерывать. Они изъяли у меня два мешка всякой антисоветчины и пишущую машинку, а я остался как одинокий хрен в пустыне. Помню, один из них еще жаловался, что у меня пыль под кроватью: так, говорит, жить нельзя.
Первым ко мне приехал мой друг Дмитрий Александрович Пригов, к сожалению, ныне покойный; тогда он был знаменитый хулиган и эпатажник, носитель модернизма. Через полчаса у меня было уже человек двадцать, и я у всех плакал на плече. Народ все-таки был хороший, не пугливый. А потом меня начали таскать в КГБ на допросы и однажды сказали такую фразу: «Бахыт Шкуруллаевич, мы от вас устали. У вас в силу наличия жены есть выбор: вы можете уехать или на восток, или на запад. Выбирайте, и поскорее». Тут я перепугался и подал заявление на выезд насовсем.
— С выездом все прошло гладко?
— Куда там! Меня очень долго мучали по мелким поводам, унижали по-мерзки, по-вредному. Задолго до этой истории мы с Лорой летали в Алма-Ату. А мне мой дядя подарил ужасно красивый гэдээровский ножик с ручкой из ноги оленя. Небывалая вещь, и я взял ее в Казахстан, чтобы похвастаться друзьям. На проверке в аэропорту ножик обнаружили и конфисковали; я попереживал и забыл. И вот, когда я подал документы на выезд, меня приглашают в ОВИР и говорят: «Как же мы вас выпустим, если за вами административное правонарушение? Вы пытались пронести на рейс в самолете холодное оружие, а наказания не понесли». Я спрашиваю, что же мне делать, и они рекомендуют мне пройти товарищеский суд. На кафедре коллоидной химии, с которой я уже уволился, мне этот суд организовать не удалось, и я пошел к себе в ЖЭК. Там собрались старички и старушки, судили меня с очень скучными лицами и присудили к штрафу в сорок рублей. Я его заплатил и с этой бумажкой пошел в ОВИР. Затем, когда я получил свой вкладыш, который вклеивали в паспорт, оказалось, что на нем вместо мужского пола указан женский, и мне опять пришлось выстоять унизительную очередь, чтобы его поменять. Когда все наконец было готово, мы с Лорой отдали паспорта к ней на работу, чтобы нам оформили выездные визы. И вдруг издательство «Прогресс» потеряло наши паспорта. Лорин восстановили в посольстве за четыре часа, а мне пришлось начинать все с начала. Разумеется, никто ничего не терял, все это было сделано нарочно.
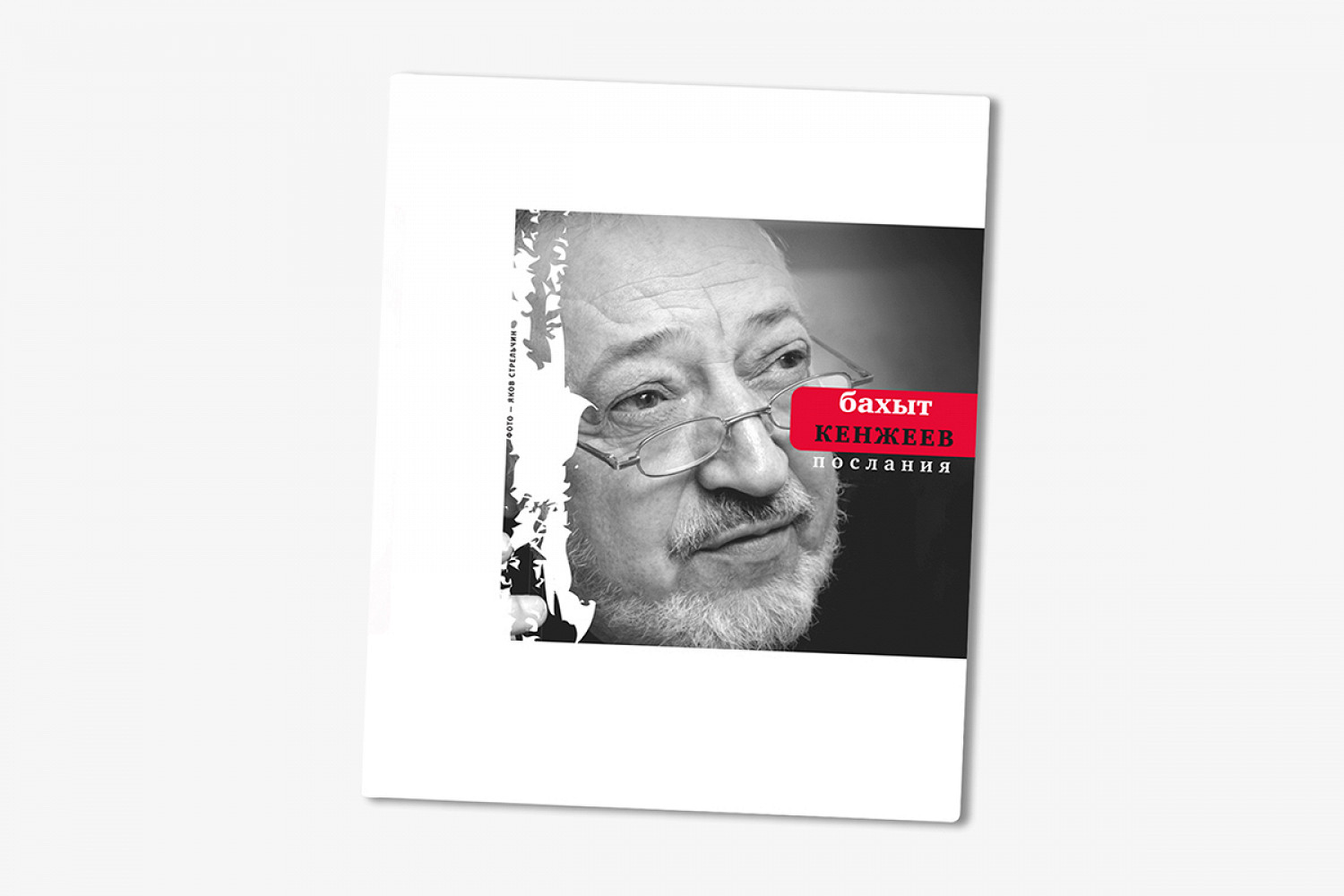
«Я когда‑то очень любил интеллектуальные разговоры, но потом понял, что все это неважно»
— Какое впечатление произвела на вас Канада?
— В издательстве «Прогресс» Лоре платили сто долларов в месяц валютой как иностранной гражданке, и все три года после свадьбы мы их откладывали. Трех с лишним тысяч долларов в Москве бы хватило на три года жизни, но тут выяснилось, что в Канаде этой суммы едва хватит на три месяца. Но когда я впервые в жизни пришел в канадский универсам, не буду скрывать, что я разрыдался.
Первый месяц в Монреале мы прожили в удивительном месте: знакомая Лориной мамы, богатая женщина, уехала на время и отдала нам в пользование трехэтажный дом в Вест Маунте — это как Пречистенка в Москве. А потом я снял крошечную квартиру с подвальчиком, где я мог работать, за смешные деньги — она почти ничего не стоила, — и там мы прожили очень долго. За сорок лет этот район превратился в один из самых шикарных районов Монреаля, но тогда там можно было найти такое чудо.
Потом родился мой сын Леша, и я присутствовал при его рождении. Сначала я очень противился, потому что это не в обычае русского мужика. Это сейчас я понимаю, что не быть там, когда жена рожает, — женоненавистническое свинство, а тогда я этого не понимал. Считал, что это таинство, на котором мужик не должен присутствовать. Да ерунда это все! Конечно, должен. И вот появился на свет младенец, весь в крови и в соплях. Как положено любому отцу, я испытал самое счастливое мгновение в своей жизни. Тут меня спросили: «Обрезание делать будем?» Обрезание в те годы делалось автоматически, нужно было только формальное согласие родителей. «Это еще зачем?» — спрашиваю я. Они отвечают, что так принято для здоровья. Но я не поверил: что природа дала, того отбирать не надо. Это напомнило мне историю о том, почему я сам не обрезан. Ведь мой папа — мусульманин. Почему же он не устроил мне обрезание? Я спросил его об этом, когда он был жив, и папа сказала: «Знаешь, я на войне был и видел, как поступали немцы с обрезанными. А вдруг что?» Может быть, у меня это осталось в памяти.
— Жизнь с новорожденным стала еще более трудной?
— Мы много бедствовали. Конечно, не так, как бедствует одинокая мать в Урюпинске, — все-таки Канада богатая страна… В какой‑то момент я узнал, что есть такая вещь, как велфер, то есть социальное пособие. Слава богу, я никогда в жизни его не получал, но у меня были друзья, которые его получали, и это ужасно.
Я говорю об этом в контексте сегодняшних идей об универсальном базовом доходе. Идея кажется хорошей, но беда в том, что человек должен работать: если он не работает, это его развращает, он медленно гниет. Работать надо обязательно.
В последние годы жизни в Москве я зарабатывал переводами на английский научных статей, и в Канаде меня вывели на отдел, который занимался тем же. Я прошел какой‑то пробный экзамен, получил тройку с плюсом — это был проходной балл, — и мне стали давать работу. Статьи были о добыче угля, о которой я не знал ничего. И вот представьте: интернета нет, специальных словарей нет. Что делать? Я приходил в библиотеку Макгильского университета и тратил целый день на то, чтобы найти эквивалент двум терминам. Но термины были правильные, и я горжусь тем, что через полгода оценки моей работы, которые выставлял заказчик, были пятерками. А потом я попал на русскоязычное «Радио Канада» и проработал там семь лет.
— Как вы туда попали?
— Мне дал рекомендацию Саша Соколов, автор гениальных романов «Школа для дураков» и «Между собакой и волком».
Здесь нужно сделать отступление и рассказать о том, кто такой Саша Соколов, если кто‑то вдруг не знает. Это один из самых талантливых писателей второй половины XX века, таких людей рождается всего два-три на поколение. Сашину прозу я знал задолго до встречи с ним. Когда‑то в Москве мне дали слепую самиздатскую копию «Между собакой и волком». Я не стесняюсь выглядеть идиотом и поэтому с удовольствием расскажу, как я ее читал. Сначала у меня все руки не доходили, затем я прочел ее один раз, и мне более-менее понравилось. Потом позвонил друг и попросил вернуть ее. Я подумал, что надо еще раз посмотреть, потому что ощущение было чуть теплое. Прочел второй раз — два часа ночи. Прочел третий — четыре утра. Прочел четвертый — шесть утра. Пятый — восемь утра. И вот тут-то я начал визжать от восхищения и безумной зависти! В этой книге Саша описывает в стиле Брейгеля — чего и не скрывает — советскую жизнь 1947 или 1948 года, это угадывается совершенно точно. При встрече я спросил его, как он сумел это сделать, ведь в 1947-м ему было всего четыре года. Саша родился в Канаде: он был сыном советского разведчика, которого раскрыли и выслали обратно в СССР. И Саша сказал: «Знаешь, Бахыт, когда я после Оттавы вдруг оказался в России, это стало таким потрясением, что я запомнил все». Этот роман очень непростой, но это великая веха в истории русской литературы.
— Вы познакомились с Сашей в Канаде?
— Физически мы с ним встретились в Вермонте — в русской школе Норвичского университета. Это абсолютно эпохальное, легендарное заведение, куда съезжалась русская интеллигенция со всей Северной Америки, — летняя школа русского языка для американцев. Там было человек двести студентов и человек сорок преподавателей, но они с раскрытыми объятиями принимали всех нормальных людей, которые говорили по-русски: это помогало им создать вокруг студентов атмосферу России. Я ездил туда как вольноопределяющийся гость и друг этой школы. В Норвиче можно было за три копейки снять комнатку, а Монреаль от этого места всего в трехстах километрах. Там была чудесная, невероятная атмосфера, и я с тоской вспоминаю о том времени, когда проводил там каждое лето.
При встрече Саша поразил меня своей молчаливостью, флегматичностью и отсутствием блеска, которого я ожидал от великого писателя. Но я все равно знал, что я рядом с гением, и от этого мне было хорошо. Тогда ни у кого из нас не было денег, и однажды мы купили много-много калифорнийского вина. В 1985 году Америка не умела делать вино, и это была какая‑то жуткая гадость. Мы поехали на пикник, который я описал в стихах: там были строчки «В ручье скучают две бутылки калифорнийского вина»«В Вермонте ветрено. Прохлада/божественного сквозняка,/и мрамор — чистая Эллада,/и в ожиданье пикника/лежат пластмассовые вилки,/химическая ветчина,/в ручье скучают две бутылки/калифорнийского вина./Сходи, приятель, сделай милость,/проверь — должно быть, охладилось./Довольно плакать о своем,/вздохнем. Откроем. Разольем…». И вот мы нагрузились этим вином до состояния, когда мы уже могли обниматься и говорить о том, как мы любим русскую поэзию, а наутро я проснулся от похмелья, равного которому у меня никогда не было. С тех пор я калифорнийского вина в рот не беру.
Осмелюсь сказать, что мы с Сашей некоторое время дружили. Дружба, как мне кажется, это чувство тепла, которое возникает, когда ты вспоминаешь о человеке и о последней с ним встрече. Именно это важно, а не то, о чем вы разговаривали. Ведь когда ты встречаешься с мамой, ты не будешь обсуждать с ней теорию относительности или вопросы русской культуры, а спросишь, как у нее получаются эти невероятно вкусные котлеты. Будь ты хоть Эйнштейн, хоть Пушкин, именно это составляет главное счастье твоей жизни. Я когда‑то очень любил интеллектуальные разговоры, но потом понял, что все это неважно.
— Вы до сих пор дружите с Сашей?
— Мы потеряли контакт. Во-первых, у него очень сложный характер, и с ним почти невозможно дружить. Во-вторых, никто не знает, где он в данный момент находится. Кажется, сейчас он где‑то на западе Канады. Недавно про него сняли документальный фильм, который дает представление о том, что он за человек. Но все это не мешает мне любить Сашу. Я очень люблю людей, которые талантливее меня, и рад, что знаком с ним.
— После его рекомендации вас сразу взяли на «Радио Канада»?
— Мне казалось, что рекомендация Саши — гарантия того, что все будет замечательно. Но позже на радио мне сказали, что они пришли в ужас: неужели опять такой же пришел? Надо сказать, что я боялся идти к ним. Я ведь носился с идеей ездить домой время от времени.
Расскажу нынешней молодежи, какие тогда были порядки. Если ты уезжал в Израиль из СССР, то у тебя отбирали советский паспорт; если же ты уезжал по семейным обстоятельствам в другую страну, как я, то гражданство у тебя сохранялось. А за работу на радио меня могли его лишить: времена были такие, что работать на «вражеском голосе», как назывались тогда эти станции, было просто опасно. Но делать мне было нечего, так как жена моя продолжала учиться, ребенку требовались пеленки, еда, одежда, игрушки.
«Радио Канада» в СССР слушали все, даже нынешние ватники. Но все обошлось — видимо, потому, что русский человек относится к Канаде гораздо более приязненно, чем к США.
Никогда не забуду, как я пришел на радио впервые. Там был Дмитрий Александрович Лебедев, пожилой человек, эмигрант второй волны. Меня потряс его русский язык: говорил он совершенно без акцента, хотя вырос в Риге, а в России побывал только однажды туристом. Он начал давать мне работу: я стал писать маленькие репортажики из канадского быта.
«В какой‑то момент я достиг уровня достойной бедности. А что еще нужно человеку?»
— Помните свой первый репортаж?
— Он был про копировальные бюро — это явление меня поразило, когда я приехал в Монреаль. В СССР я видел ксерокс только на химфаке: вход к нему был прегражден железной решеткой, а для того чтобы скопировать даже одну страницу, нужно было разрешение парткома. Я не шучу! Был специальный человек, который подписывал эти разрешения. А тут каждый мог за небольшие деньги скопировать что угодно, и материал, который я написал, был очень антисоветским.
А еще я хочу похвастаться. Когда писателю удается внести в русский язык новое слово, это большое счастье. Я изобрел одно новое слово, но никто об этом не знает — и я рад возможности объявить. Однажды я пошел на ежегодную выставку науки и техники и там впервые в жизни увидел мобильный телефон. Это был, наверное, 1986 год; тогда телефон весил килограмма три и стоил несусветных денег. Увидал я эту штуку и пришел в восторг. Узнал, как она работает: город делится на участки, и на каждом ставят маленькую башню, которая передает сигнал. Тогда идеи о мобильной связи не существовало, поэтому приходилось пахать по целине и придумывать термины. Я подумал, что раз город делится на участки и они тесно примыкают друг к другу, значит, это сотовая связь: так я и написал. Этот термин постепенно просочился в народ от людей, которые слушали «Радио Канада». В совпадение я поверить не могу, потому что это была поэтическая идея.
И вот я писал эти репортажики, что‑то переводил — и постепенно все начало образовываться. В какой‑то момент я достиг уровня достойной бедности. А что еще нужно человеку? Больше ничего. Когда я открыл эту истину, я буквально запрыгал от радости, а спустя пару лет обнаружил ее на девятой странице романа «Преступление и наказание», но не расстроился, потому что это означало, что я тоже кое‑что умею сообразить.

— Почему вы ушли с радио?
— Началась перестройка, и тут мне подвернулся один ныне покойный авантюрист, словак Джейкоб. Он был человек совершенно безумный, лишенный понятия об этике, но веселый и добрый: главным его достоинством было невероятное обаяние. Словом, настоящий Остап Бендер. Я ему верил во всем и только намного позже узнал, что он почти все врет. Тем не менее я очень ему благодарен за то, что он дал мне возможность увидеть Россию в переломные времена. Я пошел к нему работать переводчиком, но вскоре выяснилось, что я умный и могу вести переговоры, работать бизнесменом.
В 1989 году Джейкоб строил в Питере хлебозавод, и я провел там целый год. В Питере я встретился со своим старшим сыном Кириллом, с которым мы не виделись много лет: ему тогда было двенадцать, и мы очень подружились. Сейчас он вместе с семьей застрял в Камбодже, где строил завод, в связи с коронавирусом. Возвращаясь к Джейкобу: я проработал у него пару лет, а потом он разорился. И в сорок лет я оказался в ситуации, когда работы у меня нет, квалификации тоже, на радио обратно не возьмут. Я очень загрустил и даже думал: «Ну что мне, повеситься?» Но тут явился господь бог и сказал: «Слушай, Бахытик, ты же купил билеты, чтобы поехать в Москву с Лешей? Вот и езжай, а дальше поглядим». Я послушался, мы поехали в Москву и прелестно провели там время. А когда я вернулся, увидел, что на автоответчике кто‑то оставил сообщение. Оказалось, оно было от моей подруги Марины. Она сказала, что я очень ей помогал, когда мы работали на радио, а теперь она устроилась в Международный валютный фонд и предлагает мне попробовать у них поработать.
— Вы очень обрадовались?
— Конечно! В России к МВФ относятся как к жупелу, но, по сути, это такая международная касса взаимопомощи: они дают деньги под очень низкие проценты стране, у которой трудное положение, а взамен просят, например, не класть новые бордюры, когда старые еще ничего, — и страна ухитряется выкарабкаться. Они стали понемножку присылать мне работу, потом я начал ездить в миссии, то есть в командировки в разные страны. Это одна из причин, по которым я так часто ездил в Москву. МВФ был очень щедрой к своим сотрудникам организацией, и если я ехал далеко, то по дороге обратно имел право остановиться на несколько суток, где хотел. И так я привык на халяву ездить в Москву по четыре раза в год. МВФ возил меня всегда бизнес-классом, и я наелся черной икры и всего, что они там подают, по самые уши.
Но прошло лет двенадцать, и все это накрылось — Валютный фонд оказался никому не нужен, и лафа кончилась. А я понял, что уже не могу без поездок в Москву, и стал кататься туда за свои деньги. Разумеется, бизнес-класс я не мог себе позволить, и в первый раз очень боялся, что войду в самолет, и мне станет грустно. Но когда я вошел, я отметил про себя: «Вот бизнес-класс, где всякие толстые богатые коты летят, а я с народом, все прекрасно». То есть экзамен на вшивость я выдержал, чем с радостью хвалюсь.
— Почему вы переехали из Монреаля в Нью-Йорк?
— Из‑за личной жизни. Мы с Лорой прожили вместе больше двадцати лет и разошлись по обоюдному согласию. А с моей нынешней женой Леной мы познакомились в Москве. Она девушка очень американистая, живет здесь с двадцати трех лет и говорит по-английски без акцента. Когда мы поженились, я предложил ей переехать в Канаду: там хорошо, говорю. А она отвечает: «Как же я перееду, если тут у меня работа, а в Канаде у меня не будет даже лицензии, тем более во франкоязычном Квебеке?» Лена юрист по профессии. В общем, через некоторое время я переселился сюда и живу в Нью-Йорке уже больше десяти лет.
— Кто в вашей семье занимается бытом?
— Я никогда не убираю в квартире, и меня всегда распекают: «Почему это валяется здесь? Так жить нельзя. Во что ты превратил наше жилье?» При этом я отвечаю за еду, так как Лена не готовит вообще. В Москве у меня есть любимый друг Петя Образцов, которого я уже упоминал, я у него всегда останавливаюсь. Они с Леной очень похожи: оба аккуратисты, но не понимают, что такое готовка. Всякий раз, приезжая к Пете, я слышу от него фразу, которую часто слышу дома: «Почему ты опять набил холодильник?» Когда мы жили с Лорой, я тоже всегда готовил. Здесь такое количество потрясающих продуктов, так почему бы не готовить? Тем более что я так и не освоил традицию ходить по ресторанам, даже по недорогим. Сначала я был беден, а потом как‑то уже и не сложилось, тем более что там нельзя курить.
Они свой уровень жизни в каждый данный момент сравнивают не с уровнем жизни соседа, а самого себя в 1975-м году, и это залог очень большого удовлетворения от жизни. Пользуясь случаем, хочу рассказать, что Петя пишет невероятно интересные книги, в которых популяризирует науку. И две из них мы написали вместе, причем одна как раз посвящена разоблачению мифов о еде.

— Вы до сих пор работаете переводчиком?
— После МВФ я стал заниматься переводами на вольном рынке. Но, к сожалению, когда мир потерял интерес к России и контактам с ней, заказы прекратились, и вот уже года два как их нет вообще. Это плохо, потому что когда у переводчиков есть работа, это означает, что много контактов между странами и меньше риск войны.
Сейчас мы с Лешей Цветковым работаем над одним частным заказом. Есть серия романов Лоры Инглз-Уайлдер о первых поселенцах в США. Их семь, и пять с половиной из них переведены на русский, так что мы переводим оставшиеся полтора. В Америке они бешено известны, это литература для девочек-подростков. Мы переводим по большим кускам, потом друг друга редактируем, чтобы был однородный стиль. Не всегда и не все у нас проходит гладко, иногда бывают довольно серьезные разногласия. Но это очень интересная работа. Действие романов относится к 1889 году; фишка тогда была в том, что любой желающий мог приехать и получить бесплатно участок земли около ста гектаров в таких штатах, как Айова или Северная Дакота. На участке ты должен был прожить пять лет, и тогда получал право им владеть. И вот люди приезжали и начинали осваивать эти земли. Это были очень простые люди, протестанты с очень твердыми нравственными установками, которые знали, что надо работать, надо растить детей, любить друг друга и не быть жадными, не потреблять лишнего. Я очень рад, что на этом этапе моей жизни я встретился с таким мировоззрением. Честно говоря, я даже в каком‑то смысле позавидовал их жизни. И еще я считаю, что такой проект способствует сближению народов, потому что чем больше мы будем знать о прошлом друг друга, тем лучше будут наши отношения.
«Надо все это пересидеть»
— Вы следите за тем, что в России пишут об Америке?
— Я регулярно читаю такие сайты, как «Яндекс.Дзен»: хочу знать, что на родине творится, что думает народ. И меня очень огорчает ситуация с тем образом Америки, который складывается в России. У меня самого к Америке много претензий, но все-таки, ребят, нельзя же так! Это все равно что писать про Россию, будто в ней медведи по улицам ходят. Тема национальной исключительности, которая сейчас просто кипит, — она чрезвычайно опасна.
Еще есть такое общее место в русской культуре, будто русский язык лучше всех прочих языков: это еще от Ломоносова пошло, и с тех пор эта мысль так и кочует. Но индейские племена Амазонки тоже считают свои языки лучшими, и эскимосы, которые сто сортов снега могут назвать разными словами. Я считаю, что нет на свете лучшего языка — все языки одинаково хороши. Русские любят смеяться над тем, как много в казахском языке русских слов: индустриализация, совхоз, гулаг, обком. Но в русском огромное количество казахских, тюркских слов: деньги, ямщик, хозяйство. Есть в «Википедии» список тюрских слов, посмотрите его. Я не собираюсь умалять русский язык — он великолепен, но не нужно умалять другие языки.
— В одном из последних интервью вы говорили, что стихи у вас сейчас не пишутся. Это по-прежнему так?
— Стихи действительно не пишутся с самого начала карантина. Видимо, надо все это пересидеть. Некоторые мои коллеги очень даже активно пишут апокалиптические стихи, и я им завидую — у меня не получается, потому что уныние овладело мною. Раньше как было: сядешь на самолет, полетишь куда‑нибудь или друзей пригласишь к себе в гости. А сейчас перед тобой только экран компьютера, пускай даже иногда с очень симпатичными девушками. Потом в наморднике надо ходить — ей‑богу, от этого настроение падает. Я же не сверхчеловек.
Вот когда Пушкин в Болдине писал, думаю, секрет был в том, что он был очень молодой, ему и тридцати-то не было. К тому же он собирался жениться, и эта холера казалась ему смешной. Он же бывал в карантинах не раз. Что интересно, он тогда написал вещь, за которую сейчас бы его посадили — абсолютно безответственный «Пир во время чумы». Фактически это распространение фейковых новостей о холере, и сейчас такое уже трудно себе представить.




