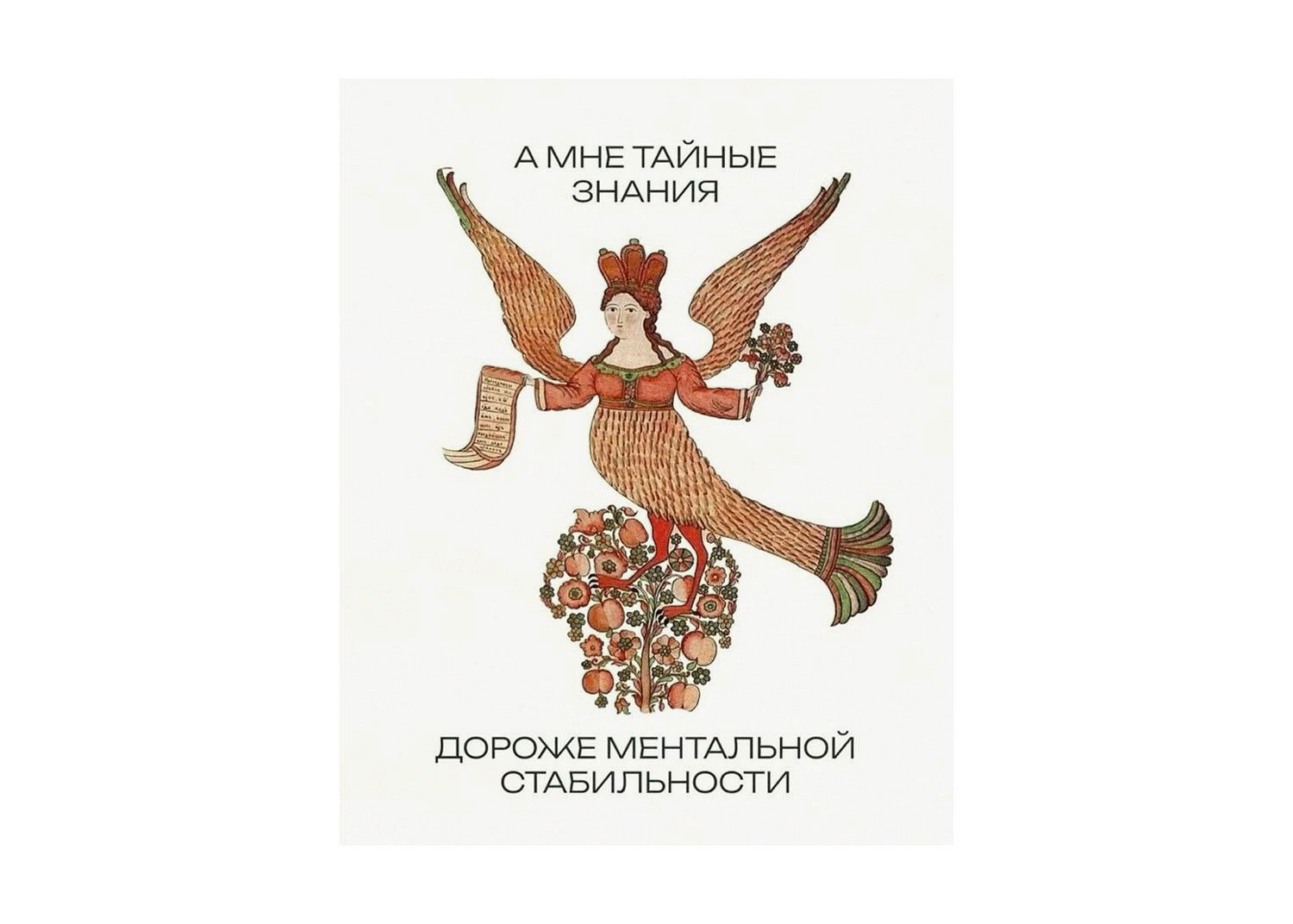— Будучи критиком и книжным пиарщиком, а теперь написав книгу, ты сейчас как представляешься людям? Позиционируешь ли ты себя как писательницу?
— Я обычно везде просила представлять меня как критика, потому что это штука, за которую мне платят деньги, — понятное дело, что на книжке я ничего не заработала. А месяц назад я попала в ужасно глупую ситуацию, когда пришла читать лекцию и меня там по обыкновению представили как критика. Ко мне подошла девушка и начала рассказывать, что у меня, оказывается, есть тезка, книга которой ей очень понравилась. И в какой‑то момент я начала понимать, что это она про мою книгу. Я думала ей даже соврать: типа мало ли какая там девка что написала, у нас две Маши Лебедевы были в классе. Но поняла, что, в общем-то, момент важный, нужно сказать, что это была я. И поэтому я как раз думаю, как вообще объединять эти две идентичности и стоит ли, если я ничего писать-то и не собираюсь больше.
— Ты про художественную литературу?
— Я хочу написать нонфик про культурное значение дружбы во взрослом возрасте, потому что это неисследованный вопрос. А насчет художки — я понимаю, что люди, которые обозначают себя как писатели, мыслят не так, как я, и, возможно, мне не стоит себя к ним причислять.
— А первая книга была запланированной?
— Нет, не была. Я часто рассказываю эту историю: мне позвонили с одного форума и спросили, не могу ли я написать книгу. Я сказала: фигня вопрос. Но, естественно, я частично вру, когда рассказываю эту историю. Если бы я внутренне не хотела что‑нибудь написать, фиг бы я что‑нибудь написала.
— Ты неоднократно рассказывала, что рукопись, которая потом стала романом «Там темно», отказались обсуждать на литературном семинаре. Я не хочу тебя заставлять еще раз пересказать эту историю, но спрошу вот что: как за время, которое прошло с того самого семинара до выхода книги и с момента выхода книги до текущего момента, изменилось твое отношение к этому эпизоду?
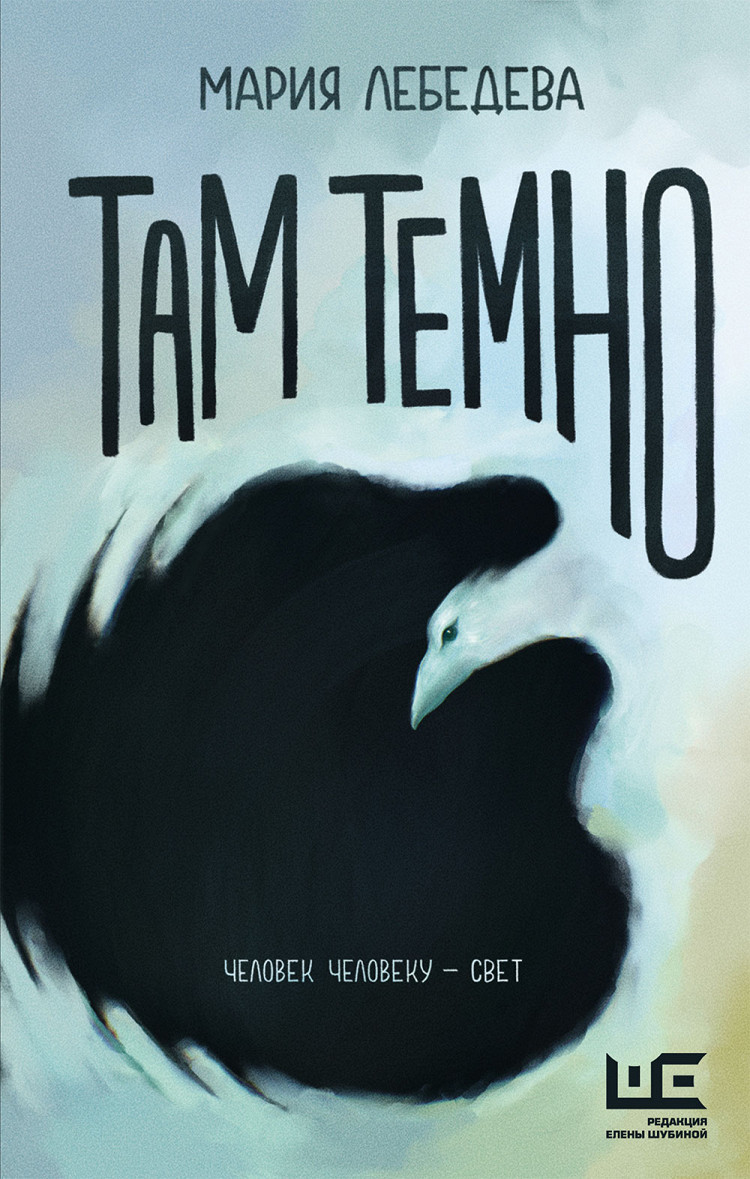
— Мне кажется, главное — то, что, когда произошла та история, я сама была тотально не в порядке. У мамы был рак, у меня была ужасная работа, на которой процветало то, что называется моббингомМоббингФорма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе.. В общем, плохо было вообще все по всем сферам. Естественно, этот мелкий эпизод, который меня не расстроил бы сейчас, тогда показался очень болезненным.
Я бы стала относиться к нему по-другому, даже если бы книжка не вышла. Потому что понимаю, что это просто было какое‑то странное проявление власти. Я не люблю проявления власти.
— А нет такого приятного ощущения «вот вы меня даже слушать не стали, а книжка-то вышла, и даже премию за нее дали»?
— Слушай, я знаю, как это теоретически работает: когда тебя похвалили, ты должен испытывать что‑то приятное; когда тебя поругали, ты должен думать «фу капец, я стремный». Но в какой‑то момент для меня это абсолютно перестало работать.
В шестнадцать лет меня отправили к психиатру как необучаемого человека, и двенадцать лет спустя я обнаружила, что у меня вообще-то есть карточка в ПНД, где написано, что у меня проблемы с обучением. Я пришла туда, чтобы получить справку как раз для того форума, где была эта рукопись, и меня спросили: «Вы что‑нибудь окончили в итоге?» Я не поняла, к чему вопрос. «Ну какое у вас образование?»
То есть понимаешь, если я бы судила о себе по социальным ожиданиям, то у меня бы самооценка скакала бы туда-сюда, туда-сюда. Я в это вообще играть не хочу, поэтому и премию воспринимаю как подарок. Ну подарили, ни лучше, ни хуже я от этого не стала. Скажут «фигню написала» — окей, ребята, это ваше ожидание, это ваша жизнь.
— Отсутствие необходимости соответствовать социальным ожиданиям — это твоя врожденная черта или это что‑то, что в тебе появилось со временем?
— Скорее всего, появилось, потому что я помню, что в детстве мне от этого было больно, а потом перестало.
— Это качество тебе помогает?
— Ну это просто я. Оно создает некоторые сложности в общении с другими людьми, потому что мне нужно механически учитывать, что, допустим, лично ты можешь сказать человеку одно, а когда рядом другие люди стоят, ему может быть стремно, что ты ему это говоришь, — нужно это все помнить, потому что у меня это не так работает. Но так не знаю, это просто есть.
— Ты в послесловии к роману пишешь: «История выдумана, чувства настоящие». О каких чувствах речь?
— Слушай, я его полтора года не читала, вот сейчас бы вспомнить, конечно, о чем он вообще. Как я его закончила редактировать, так и не касалась — у меня его дома нет.
Я просто, видимо, в тот момент много думала о том, что любое художественное высказывание может восприниматься как автофикшн, даже если это не автофикшн. Мне хотелось как‑то от этого абстрагироваться и отсылать к тем историям, когда, допустим, какой‑нибудь мужчина описывал опыт родов, но при этом он был эмпатичным человеком и приблизился к пониманию того, что могла бы чувствовать женщина, рожая ребенка. И я хотела сказать, что ситуации, которые там приведены, вымышлены, но чувства, которые испытывают герои, — это то, что проживала я или проживал кто‑нибудь еще, но называл другими словами.
Я думаю, что наш эмоциональный опыт довольно универсален, у нас же ограниченное количество эмоциональных реакций, вот и все. И какие это могут быть чувства? Я не знаю. Одиночество, может быть.

— Ты, будучи книжным пиарщиком по одной из своих сущностей, приняла решение не продвигать как‑то активно собственную книгу, несмотря на то что в целом в российской книжной индустрии ожидается, что автор будет носить всюду книжку, про нее рассказывать, ее продавать. Почему ты решила этого не делать и каков эффект этого неделания?
— Про эффект я тебе сразу скажу: книжка закончилась еще до того, как я получила премию. Сейчас ее не купить, она по одной штучке где‑то продается в офлайновых магазинах России.
А решила не продвигать сама, потому что мне кажется, это именно тот случай, когда продвигать — значит немножко обманывать людей. Книжка сильно на любителя. В книжном пиаре часто принято говорить: «Эта книга для всех и каждого, она о жизни, о любви, одиночестве, обо всем, что вы испытываете» — еще прилепить рядом «бестселлер New York Times», и будет типичное описание любой книги. И если я так буду говорить, это будет абсолютный обман: всем и каждому она не нужна. Но как человек, который периодически людям рассказывает о литературе, я понимала, что, посмотрев на меня больше пяти минут и, как это случается, захотев меня погуглить, люди и так узнают, что я что‑то написала. Если захотят, то прочитают сами.
— А тот факт, что тираж книги при этом уже распродан, ты с чем связываешь?
— Смотри, когда я говорю людям: «Не читайте мою книгу, она вам не нужна», я как раз отсекаю, насколько могу, ту аудиторию, кому она действительно не нужна.
Не из числа моих друзей, потому что заставлять своих друзей и близких читать твою книгу — это какой‑то кринж. Больше всего меня пугают посты от писателей «Мой муж — это мой главный читатель, он интересуется всем, мы постоянно говорим о книгах». Господи боже, это очень мило, но я бы себе такого не хотела никогда в жизни.
А то, что она распродалась, связано с маленькими тиражами в России. Это не значит, что книга хорошая, это не значит, что она плохая, а просто данность.
— Ты как‑то сказала, что единственное, что тебе понравилось в процессе книгоиздания, — это писать. Можешь расставить рейтинг элементов издания книги от наиболее до наименее понравившегося? Наверху будет написание романа…
— На втором месте — мне понравилась редактура, потому что у меня были классные редакторки, с ними было интересно работать. Потом будет все остальное, потому что все остальное мне вообще не понравилось. (Смеется.) То есть первые два места мы вот так отсекаем, и дальше уже вот это вот дно.
— И на дне — презентации, интервью?
— Нет, слушай, интервью я воспринимаю как просто общение. Это же не смол-ток, это разговор один на один с каким‑нибудь человеком, приятным или неприятным. Мне сложно вести смол-ток — когда тебя тормозят на нонфике, и нужно что‑то рассказать кому‑нибудь, и все еще ждут, что ты будешь говорить об их новой книге… вот это больно. А тут — ну почему бы не порассуждать с тобой про книгоиздание?
— Ты постоянно говоришь, что «Там темно» понравится людям, которым нравятся книги, в которых ничего не происходит. Можешь посоветовать пять лучших книг, в которых ничего не происходит?

Постмодернистская классика с описаниями полусотни городов, которых нет, или все же одного существующего.
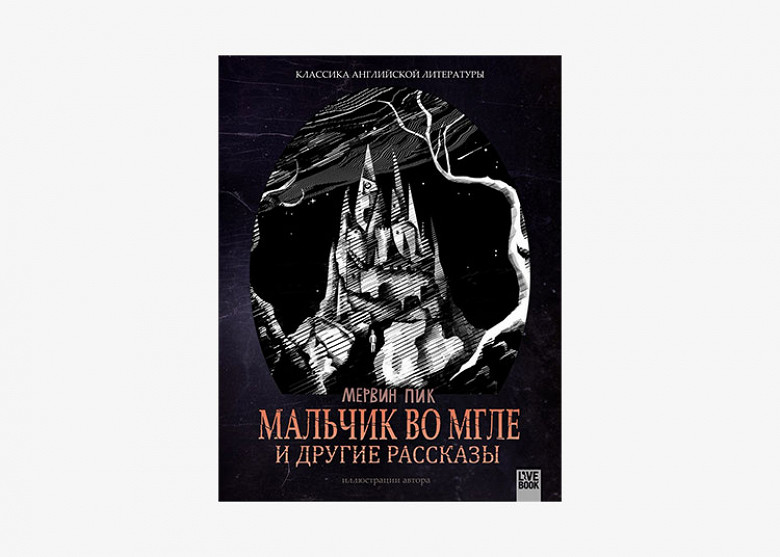
Короткая история, примыкающая к грандиозному «Горменгасту», — о юном наследнике древнего рода, сбежавшем из замка. Это он зря, конечно.

Жутковатой и трогательной семье не дают нормально пожить. Место действия — вовсе не Тверь в нулевые, но для меня похоже.
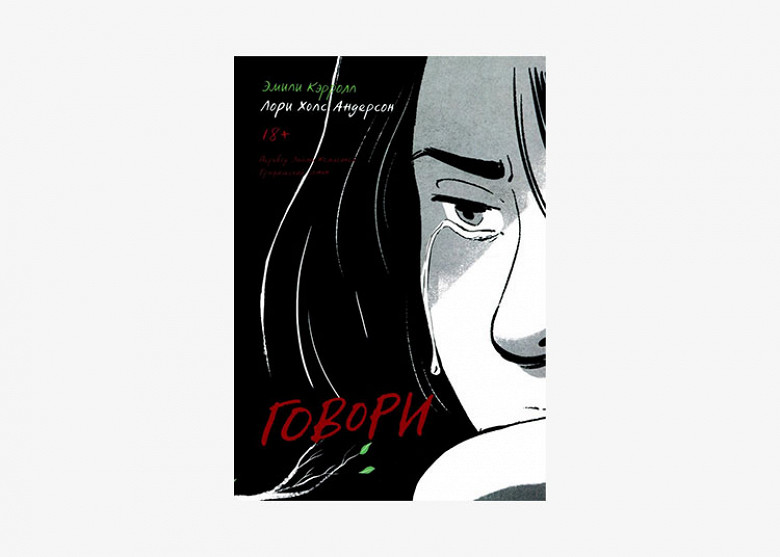
Девочка не может сказать о пережитом насилии, а потом говорит. Есть одноименная повесть, но люблю именно в формате графического романа.

У мальчика смертельно больна мама, а заоконная хтонь рассказывает ему сказки и ломает привычные нейронные связи. Моя самая любимая подростковая книга на свете.
— Еще одна цитата из твоего интервью: «Я лучше всего знаю, как учиться на филфаке и постоянно разговаривать с мертвыми людьми у себя в голове, потому что филфак — это некромагия». С кем тебе интереснее разговаривать и почему — с мертвыми писателями или с живыми?
— Интереснее всего мне разговаривать не с писателями.
— А с кем?
— С моими близкими, с друзьями. Человек, которого я знаю десять лет, мне интереснее, чем тот, которого я не знаю.
— А что ты имеешь в виду, когда говоришь о разговоре с мертвыми людьми?
— Я отучилась на специальности «Теория литературы». Мне нужно было понять и логику того, что хотел сказать автор, которого уже нет, и логику того, как это могло преломиться в сознании читателя, и из этого что‑то воссоединить. Это довольно трудоемкий процесс, потому что ты разговариваешь, по сути, с самим собой, при этом имея очень малое количество подсказок от другого человека. И ты не можешь постоянно у него уточнять, верно ли ты его интерпретируешь. Но с живыми людьми иногда говорить ничуть не проще, потому что не все хотят идти на контакт и отвечать на твои бесконечные уточнения.
— Ты, как человек, который работает критиком и была соведущей подкаста «Девчонки умнее стариков», знаешь, что писатели бывают существами нежными и ранимыми. Причем часто их задевает даже не то, что тебе книга не понравилась, а то, что она тебе понравилась как‑то не так. Сейчас, оказавшись в кресле писателя, ты с большим пониманием относишься к этому?
— Я думаю, что люди, которые пишут «Вы неправильно меня поняли», «Вы читали меня не тем местом», — это не писатели в целом; речь об особом сорте людей, которые вели бы себя точно так же, принадлежи они к другой профессии. Это некто, воспринимающий книгу не как отдельную субстанцию, а как продолжение себя.
У меня был знакомый, который воспринимал так свою кошку. Постоянно отправлял фоточки своей кошки, говорил, как она провела день, — и как будто бы кошка была его альтер эго, только более милым, возможно, более умным и более талантливым. И он переносил на нее все внимание человека, желая: «похвали мою кошку — то есть похвали меня». Я видела такое в отношении ребенка, в отношении мужа, иногда в отношении книги — какая разница?
Иногда это меня даже трогает, потому что это какой‑то неожиданный факт нахождения общего языка с человеком, которого ты не знаешь и никогда не узнаешь.
— А работая над книгой, ты учитывала это понимание того, что ты не контролируешь то, как читатель книгу прочитает, думала ли об этом?
— Не особенно. Насколько бы ты простой или сложный текст ни написал, есть там игра с читателем или нет — все равно его будут интерпретировать в зависимости от широты своего кругозора, предыдущего опыта, настроения, фазы Луны и ретроградного Меркурия. Учесть все эти факторы вообще невозможно. Что угодно может быть интерпретировано как угодно, потому что многие читатели плевать хотели на горизонт интерпретации и прочие литературоведческие штуки, которые мы себе выдумали.
Я примерно так же отношусь к своей внешности. В Твери у меня постоянно путают гендер. Я тут год не стриглась, отрастила длинные волосы, и за день до премии все равно меня тормознул какой‑то мужчина и обратился ко мне «молодой человек». Стала ли я от этого мужчиной? Нет. И с текстом точно так же: в нем абсолютно ничего не поменяется, несмотря на то как его интерпретируют и в какую категорию его отнесут.

— Слушаю тебя и думаю, что миру нужен курс дзена от Марии Лебедевой.
— Мне тут пошутили, что я должна писать книгу «как быть сигмой». (Смеется.)
— Ты говорила, что один из вопросов, волновавших тебя, — «страх исполнить мечту. Почему человек может бояться делать то, чего хочет сделать больше всего в жизни?» Есть ли у тебя такая мечта и такой страх?
— На момент, когда у меня эта рукопись валялась, никуда не пристроенная, я очень близко общалась с человеком, у которого вызывала большие проблемы любая моя проявленность. «Ах, ты опубликовала здесь, мне этого тоже хотелось», вот это вот. И я думала, что общение с этим человеком мне, конечно же, дороже, чем любая публикация где бы то ни было, и можно это куда‑то все отодвинуть.
И так получилось, что в день, когда мы прекратили общаться, что, несомненно, пошло на пользу обоим участникам коммуникации, я решила, что нужно что‑то делать с этой рукописью. Потому что я постоянно вижу, как людям что‑нибудь мешает реализовать то, что вроде бы обязательно. Я бы спокойно прожила без этой книжки, но издать ее для меня — это еще и какое‑то право на мое личное существование.
И такую же проблему я видела у многих людей, не всегда это касалось книжки. Мне очень жаль, что так. Мне кажется, есть что‑то в нашей культуре, что тормозит все желания, не связанные с выживанием.
— Ты теперь еще и курируешь серию «Рябина» в «Редакции Елены Шубиной»…
— Пока там только одна книжка вышла, сейчас выйдет вторая. Но я на самом деле очень жду книжку, которая еще только готовится, — это будет автофикшн, написанный молодой женщиной, детство которой прошло в секте.
— А можешь рассказать, как ты стала курировать эту серию, как вообще это все сложилось?
— Ой, слушай, со мной хорошо работать. После того как мы поработали над книжкой, думали, что бы еще со мной сделать, и оказалось, что у других участников команды РЕШ давно есть мысль, что пора делать янг-эдалтовскую серию и неплохо бы позвать туда меня и делать все вместе. Мне очень там нравится то, что нас не торопят с наполнением серии, и мы можем ее отобрать без обязательства непременно издать пять книжек за месяц. Из‑за того что вышла только одна книжка, мне кажется, будет правомерно говорить о серии, когда этих книжек будет три и больше, потому что у нее будет постепенно вырисовываться определенный облик, отмежевающий ее от других замечательных серий, которые есть у «Поляндрии NoAge» и прочих издательств.
Мне кажется, это интересный опыт. Он, как и все, связанное с книгоизданием, не слишком благодарный, но мне классно заниматься этой серией и нравится работать с другими людьми, которые ею занимаются.
— В целом в том, что касается книгоиздания и работы над книгами, главное — работать с классными людьми?
— Да. Но это я говорю, что редакторы классные, с ними классно работать, а от редакторов часто слышу, что авторы их вообще не упоминают. Типа «Моя книга такая офигенная» — над ней и другие люди работали, алло. То есть в книгоиздании нужно быть немного социально отбитым, чтобы получать от этого удовольствие, или законченным альтруистом. Два таких полюса. Либо ты обожаешь людей, либо тебе другие люди настолько безразличны, что ты не ждешь от них благодарности.
— Я не знаю, иронично ты это сказала или нет, но процитирую: «Я не люблю обсуждать рабочие и люблю обсуждать прикольные истории, дурацкие мемы». Поэтому я тебя хочу попросить, чтобы ты описала свой роман одним мемом.