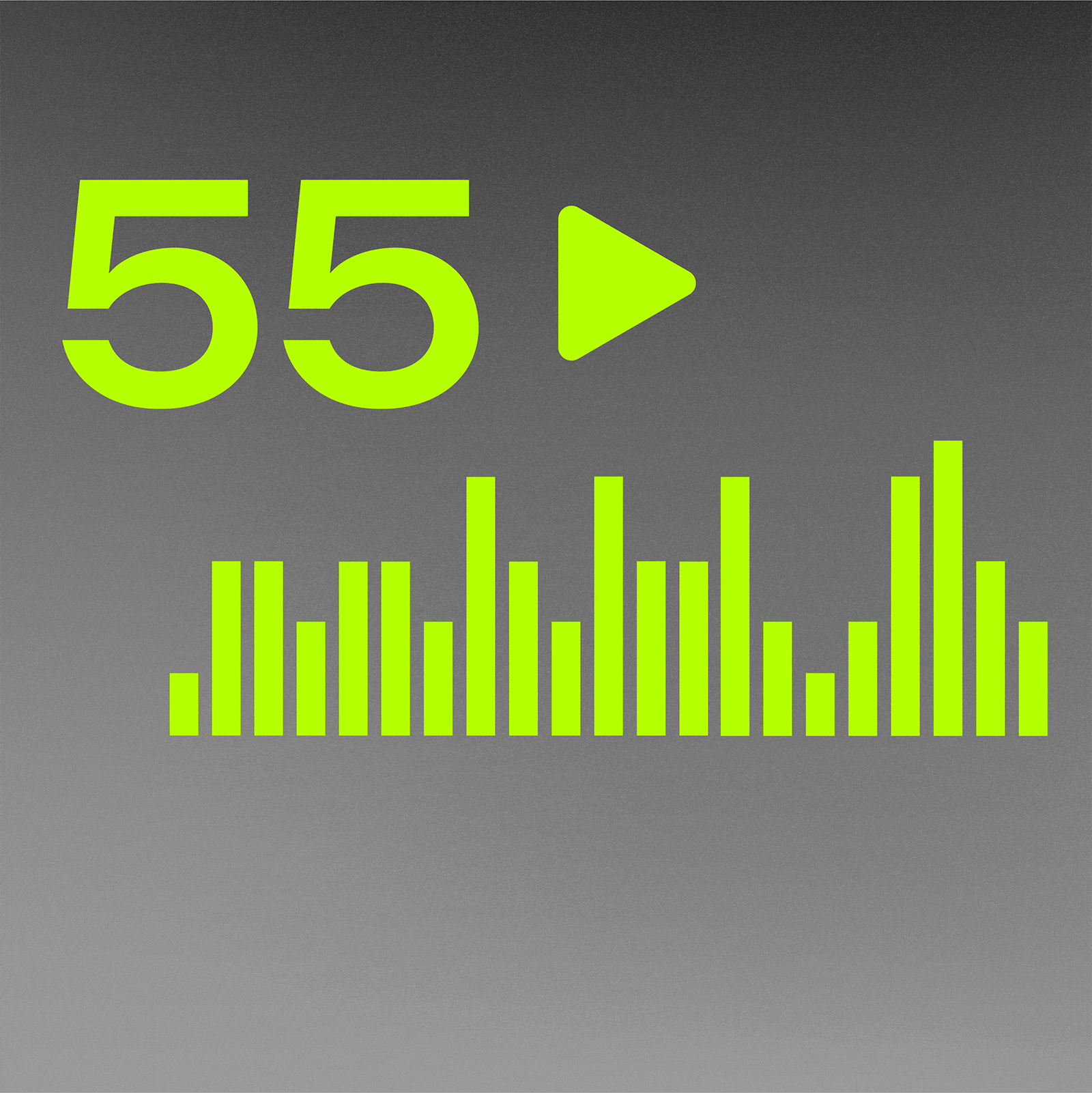— Вы около года назад написали: «Помните, я хотела написать историю с открытой и яркой мусульманкой? Это был школьный ромком о первом опыте и культурной эмиграции. Так вот, забудьте! Я пишу триллер про харассмент и шантаж». Расскажите, что это была за задумка и почему случился такой переворот?
— Да, изначально это был школьный ромком. Я старалась быть очень добрым автором, который пишет нежные истории: заботливые, комфортные, вообще не напрягающие, а очень расслабляющие. А потом начала собирать по кирпичикам сюжет и поняла, что ромком с мусульманкой не получается — потому что тогда должен уйти «ром», и останется только «ком».
Тогда я поняла, что нужно что‑то менять в сюжете. Потихонечку он становился все мрачнее — причем это происходило неосознанно, пока я складывала один кирпичик за другим. Понимала, что героине нужна подруга — окей, у нее появляется светская подруга. Теперь мне нужны какие‑то обстоятельства. Какие? Ну пускай они будут что‑то любить. Волейбол? Нет, в волейболе я ничего не понимаю. Подкасты? Я люблю подкасты, отлично. Какой подкаст? Тру-крайм, хорошо. Пусть они его пишут в школе. Нет, они не школьницы, иначе это слишком жестко — делать сюжет про харассмент со школьницей. Я так делать не хочу. Значит, мы делаем их студентками… И в один момент я поворачиваюсь и понимаю: это совсем не то, что я планировала изначально, но так даже лучше. Я не жалею о том, что получился такой сюжет в итоге.
— А что из той первоначальной идеи перекочевало в книгу, которую мы читаем сейчас?
— Перекочевала только одна героиня — Нура. В ромком-версии ее должны были звать Луиза, но все называли бы ее Лизой. И у нее был бы конфликт в том, что она Луиза из Дагестана, а все называют ее Лизой, стараясь сделать удобнее для себя и ее имя, и ее саму. В итоге она стала Нурой и перекочевала в новую историю — а все остальное совершенно оригинальное, другое. Изначально не было ветки про харассмент и вообще про любое насилие. Была только история про переезд из Дагестана в Москву с мамой и новым отчимом.

— Ваши героини слушают тру-крайм-подкасты, делают свой, вы сами их любите — что в формате подкаста вам кажется ценным?
— Подкасты хороши тем, что там есть простор для ляпа и живого рассуждения, пространство для осечки. И мне это очень симпатично.
Конечно, их чистят, монтируют, режут, но подкаст все равно кажется каким‑то кухонным форматом, где ты слышишь чью-то речь или диалог и там есть охи, ахи, лишние междометия, какие‑то сбивчивые мысли, которые все равно потом устраиваются в канву.
Подкасты в этом плане очень живые. Они не звучат как аудиоспектакли или аудиокниги — они звучат как разговоры живых людей с проблемами, осечками, слабостями. И мне очень нравится, что это какая‑то очень бытовая вещь и при этом не лишенная ярких эмоций — особенно если речь про тру-крайм.
— А почему, как вам кажется, жанр тру-крайм так популярен вообще и особенно среди молодых женщин?
— Я часто об этом говорю со своей подругой. Она театральный критик и как‑то заметила, что в театре стал популярен жанр детектива. Я пришла к выводу, что у нас всегда были детективы, триллеры, гладиаторские бои: желание наблюдать за насилием не ново в культуре.
А почему это популярно среди женщин — мое предположение такое. Во-первых, тру-крайм снимает определенное напряжение. Сейчас очень многие встревожены, это нормально, и, когда ты смотришь тру-крайм, тревога получает логичный выход. Я смотрю что‑то острое, могу по этому поводу законно переживать, выплескивать эмоции.
А во-вторых, мы сделали насилие видимым. Теперь, например, домашнее насилие из чего‑то табуированного — «боже мой, этого никогда не бывает, не говорите об этом» — становится очень явным, понятным и бытовым. Благодаря этому становится понятнее, как работать с ним. Ты думаешь: «Чтобы не попасть в похожую передрягу, я должна поступать так и так» — и потом подружкам расскажешь, и вы с ними вырабатываете стратегию для выживания, если вдруг попадешь в такие обстоятельства. Хотя, возможно, к этому и не подготовишься никогда, но создается такое ощущение, что я действительно могу быть к этому готова.
— Вы сами тоже занимались подкастом-спектаклем «Вечеринка на одного» — работа с этим жанром как‑то повлияла на вас как на писательницу?
— «Вечеринка на одного» — это на самом деле интерактивный спектакль, который оформлен в таком виде разговора в аудиоформате. И я думаю, что тут скорее писательство повлияло на подкаст, потому что я много времени уделяла звукописи, ритму, фабуле повествования. У меня был текст, который я заранее написала как автор, и потом я его озвучила — и мне было важно, чтобы в этом был ритм. В целом я стараюсь следить за ритмом в тексте. Читатели обычно говорят: «У тебя легкий слог» или «У тебя приятный слог», но весь секрет в том, что ты стараешься поэтичнее писать прозу — и поэтому возникает ощущение, что она читается легче.
— Кстати, а вы слушали аудиоверсию «Тру-крайм свиданий»?
— Да.
— Расскажите, понравилось ли вам, как там подобраны голоса?
— Мне сложно воспринимать книгу на слух, потому что в моей голове эти голоса звучат по-другому. Это потрясающие актрисы, мне высылали голоса до записи, и я всем довольна. Единственное, что у меня в голове какие‑то фразы и цитаты, они звучат по-другому. Например, у Нуры в книге есть выдох «Оха», и диктор читает его одним образом, а у меня в голове он звучит иначе — просто потому, что я лучше знаю дагестанский диалект и у меня немножко другое восприятие таких междометий и восклицаний. Но в целом меня все устраивает. И очень нравится музыка между главами: она и очень тревожная, и восточная, и при этом невосточная какая‑то.

— Вы параллельно занимаетесь театром и литературой. Театр — это коллективная история, а писательство — это дело по большей части одинокое. Как вы себя чувствуете в таких разных режимах?
— Гораздо проще работать в театре. Я недавно поняла, что театр — это вечеринка, а книга — это свидание. Потому что в театре я работаю одна, только когда пишу пьесу. Потом я иду к актерам, к своей коллеге, продюсерше Полине, мы с ней вместе думаем о бюджете — и все это обретает очень земную жизнь. Процесс репетиций — это вообще одна сплошная вечеринка, творческий хаос с эмоциями, с переживаниями, со сплетнями, с выбором декораций и реквизита, с разводом мизансцен. Это всегда очень весело. А если не весело, то сложно, но интересно.
Литература — это свидание, которое организуешь ты. Тебе надо подумать обо всем: где поставить стол, чтобы было приятно долго писать, в каком редакторе работать, в каком приложении, какой шрифт, должна ли играть музыка, что я захочу пить, — и обо всем этом никто другой не подумает. Вся ответственность за атмосферу лежит только на тебе.
В театре эту ответственность можно разделить с актерами, с продюсерами, с музыкантами. Кто‑то другой точно позаботится об атмосфере, кто‑то принесет печенье.
— И что самое важная, без чего сложно будет работать?
— Чтобы никто не отвлекал. Если кто‑то, например, ходит по кухне, а я сижу в соседней комнате, я буду какое‑то время раздражаться на звук, потому что я аудиал.
Поэтому же мне интересно работать с ритмикой и звукописью: мне надо, чтобы было либо тихо, либо громко — как‑то, как именно мне надо. А в контексте книги — чтобы никто не заходил в комнату, не шаркал тапочками, не смывал унитаз.
Какое‑то время должна быть гармония.
— Одним из рабочих названий книги было «Хорошие ученицы». Когда оно сменилось на «Тру-крайм свидания»?
— Когда я начала писать вторую и третью главы. Моя редакторка Анастасия Маркелова сказала, что хочет показать рукопись главреду, и мне нужно было для этого причесать документ — сделать нормальный синопсис, логлайн, описание персонажей и рабочее название.
У меня был только синопсис. А я из тех авторов, кто вроде что‑то придумал, а потом начинаю писать и понимаю, что здесь хочется вообще отойти от него в сторону. Поэтому я могла только предполагать, чем все дело может завершиться.
И я начала накидывать варианты, как это может называться, и тогда появились «Хорошие ученицы». Я писала книгу, опираясь на расследованияОдин из сезонов подкаста, расследование о летней экологической школе, преподаватели которой годами домогались детей, называется «Ученицы». Красильниковой в подкасте «Дочь разбойника», и мое сознание вполне себе могло этим вдохновиться. Но моя редакторка сказала: «Давай подумаем еще», обосновала, почему это не очень подходящий вариант. Я была со всем согласна. У меня очень крутой редактор, к которому я прислушиваюсь. Тогда я начала накидывать другие варианты, генерировать стопку каких‑то совершенно разных вещей — и в этой стопке появились «Тру-крайм свидания».

— Вы сейчас сказали про подкасты Красильниковой, которая совсем недавно выпустила новый сезон своего подкаста «Творческий метод», посвященный Оксимирону*. И сезон вымышленного подкаста, который ведут ваши героини, называется «Кто убил Марка?». Предвидеть это совпадение было невозможно — но очевидно, что эта отсылка сейчас читается совсем не так, как вы задумывали. Какие чувства вы по этому поводу испытываете?
— Самое смешное, что еще год назад я думала о том, чтобы назвать книгу «Кто убил Марка?», просто потому, что тогда Марк уже был убит.
— Его уже звали Марк?
— Его изначально так звали — Марк. Я это сделала не из‑за песни Оксимирона* — меня всегда бесил бывший одноклассник Марк. Я подумала: «Будешь Марком». Он тоже кудрявый.
Так вот, я хотела назвать книгу «Кто убил Марка?», но подумала, что слишком большой реверанс в сторону Оксимирона*, и отказалась от этой идеи. Но этот разгон в моей голове совершенно точно присутствовал. И в тексте цитата из песни появилась в последний момент. Просто корректорка сказала: «Тут так хочется отсылку на этот рэп». Я говорю: «А давай» — и добавила прямую отсылку, одна из героинь повторяет строчку «Но главное — кто убил Марка?».
Мы отдаем это все в типографию, а через несколько дней выходит подкаст. И всё.
Я до сих пор чувствую легкий кринж, честно говоря, думаю, как и многие девушки, кто слушал Мирона.
Я была большой фанаткой. У него был стадионный тур — это было за пару месяцев до того, как я приняла ислам и перестала ходить на такие большие концерты. Сестра подарила мне билеты на половину дня рождения — я праздную половинки дня рождения. И я пошла со своей подружкой на концерт, мне вообще все нравилось.
Потом книжка, потом расследование. И я помню, что сижу дома, послушала весь сезон, и думаю: «Какой кринж». Я ничего уже поменять точно не могу — потому что книга уже печатается. Я даже не буду писать никому и наводить смуту — ну что с этим кринжем теперь сделаешь? Ничего. Я написала у себя в инсте**, поделилась ссылкой на подкаст. Сказала, что это, конечно, очень обидно, особенно сейчас, когда я написала историю про харассмент и груминг, — и там есть прямая отсылка. Я огорчилась, кринжанула. И вспомнила в сотый раз, что моя жизнь в целом кипит ироничными совпадениями.
Потому что в моей жизни была куча таких совпадений — и вот опять оно случилось. Я не хотела этого совсем. Так получилось. Поменять я это не могу. Что мы можем с этим сделать? Только понадеяться, что читатели и читательницы прочитают эту отсылку верно — в негативной коннотации.
— Ваша главная героиня Нура — мусульманка, молодая девушка, студентка, «понаехавшая» в Москву. Какая из этих идентичностей для вас ключевая?
— Мусульманка прежде всего. Потому что я хотела сделать героиню религиозной и верующей, для меня это было важно. Чтобы это было наполнение с внешней атрибутикой, чтобы у нее просто не было конфликта внутреннего и внешнего мира. Надеюсь, что получилось.

— Вы приняли ислам во взрослом возрасте. При этом в романе у вас действуют две героини — одна светская, вторая верующая. Помог ли вам опыт перехода из одного отношения к вере к другому создать двух таких разных героинь?
— Думаю, что помог. Вторая героиня, Катя, светская. Она что‑то знает о православии, номинально приписывает себя к одной из религий, хотя это в книге не описывается — но не религиозно практикующий и не глубоко верующий человек. Она этническая православная.
Я сама выросла в светской семье, в большой степени в этническом православии. Меня водили в церковь, я знала про Пасху, кагор, свечки, знала несколько молитв. Этим занималась по большей части семья моей матери, она у меня русская. Со стороны отца-лезгина не было религиозного воспитания. Я только с детства знала: «бисмилля» — это значит «с именем Аллаха». Мне говорили: с «бисмилля» ты воду наливаешь, перед едой ты говоришь «бисмилля».
Поэтому в описании политики Кати по отношению к Богу мне это действительно очень помогло. И в контексте Нуры тоже это очень помогло. В книге есть один эпизод, немного спойлер: у Нуры есть воспоминание из детства о том, что у нее была традиция говорить про плохой денек, что хуже уже не будет — и как будто бы хуже действительно не становилось. Но с точки зрения ислама это не очень допустимо, потому что есть ощущение, что, благодаря тому, что я это сказал, это не произойдет.
В исламе это не так. В исламе что‑то может не произойти, если я попрошу Всевышнего. А если произошло, значит, это тоже благо — потому что Всевышний так предопределил. И Нура в детстве, когда еще была несмышленышем, просила у Бога то пятерку по алгебре, то чтобы ее не наругали за прогул в школе… Или говорила: «Хуже уже не будет».
И когда хуже стало, она поняла, что это не работает.
Для меня было важно показать, что есть эта разница. Потому что если бы с Катей это случилось — а у Кати хуже становится очень часто, — Кате вообще по барабану. Она продолжит говорить: «Хуже не будет», потому что для нее это работает. А Нура поняла, что хуже будет, и с точки зрения религиозного сознания решила, что это не работает, что это не та формула, которую она хочет использовать.
— У Нуры те же лезгинские корни, что и у вас. Вы сразу хотели разделить с ней это происхождение?
— Я изначально думала, что она будет лезгинкой. Я просто не думаю, что могу говорить о культурах, в которых я не выросла, которые я не знаю лично. И поэтому, когда я поняла, что она будет с Кавказа, я точно знала, что она будет лезгинкой. Потому что я носительница этой культуры, я знаю эти традиции, я знаю этот язык. Да, не как жительница Дагестана, я выросла в Западной Сибири, но тем не менее добрая половина моих родственников — лезгины, папа говорит на лезгинском, есть традиции, которые у нас в семье до сих пор практикуются.
Например, у нас есть курзе — это такой вид лепки пельменей косичкой. И вот Нурина мама хотела, чтобы она жила по соседству и лепила курзе. Есть негласные правила: если ты лезгинка, то ты, конечно же, должна танцевать лезгинку, знаешь лезгинский и у тебя есть кавказский менталитет с точки зрения уважения к старшим — это достаточно патриархальная культура, что, я думаю, не секрет. И уметь лепить курзе, конечно.

— А откуда взялись остальные персонажи книги, где вы искали вдохновение?
— Катя — это девчонки с моего района из детства. Я выросла в Сургуте, это маленький постсоветский город, где девяностые закончились в 2013 году. Там таких Кать было очень много. Это были очень красивые, миловидные девчонки, но быдловатые, огрубевшие. Потому что я выросла на районе, где были стрелки, счетчики, старшие, общаки, вот это вот все — и меня это тоже коснулось.
Что касается Дани, персонажа, который имеет зависимость, — я работала в психологическом центре. У меня была коллега, у которой диагностировано пограничное расстройство личности, она регулярно лежит в больницах, принимает медикаментозное лечение, от которого у нее появилась зависимость. И у нее на рюкзаке всегда были вот эти цветные значки из клуба анонимных наркоманов. Как‑то я спросила у нее, что это, и она подробно рассказала мне, как это происходит. Она сводила меня в чайную, где собираются ребята из клуба анонимных наркоманов в свободное время, — и я видела просто, как они общаются, какие они на самом деле суперобычные. Это были просто ребята, с разным менталитетом, с разной религией, с разным ростом, весом, одеждой. И они все были зависимы от разных веществ. Я поняла, что можно быть очень крутым другом, слушать хорошую музыку, есть хорошую еду, быть из богатой семьи — и при всем этом иметь совершенно дурацкий паттерн с зависимостью, который портит тебе качество жизни. И это помогло мне написать Даню.
Место, где они учились, — это место, где училась я. Пары, которые там описаны, — это пары, которые были у меня. И реакция Нуры — это моя реакция, когда нас первый раз учили брать интервью. Это происходило на паре, вот так вот публично. Нас останавливал подмастерье и говорил, что нужно делать, как смотреть на реакцию человека, какие вопросы задавать.
В общем, по большей части это все насмотренность. Либо я где‑то в медиа или на личном опыте что‑то потрогала, понюхала, попробовала, либо мне кто‑то рассказал.
— Еще по поводу личного опыта: вы как‑то рассказывали про опыт столкновения со сталкером и про то, что вы не очень успешно пытались делать расследование, чтобы его раскрыть. Как этот опыт отразился в вашей книге?
— Первый раз он появился в моей жизни, когда мне было шестнадцать, а длилось все шесть лет, с перерывом. Вообще, на самом деле я не знаю, что рассказать, потому что это история, где по дороге случилось еще одно совпадение — абсурдное, потому что очень грустное, но при этом сюрное, комичное.
Я тогда уже училась в Москве на журфаке, и был момент, когда я очень решительно поставила точку, решила: все, не надо больше пытаться узнать, кто этот человек. Я наговорила ему кучу гадостей и заблокировала. А утром проснулась, и первое, что я увидела: в мой чат с подругами из Сургута кто‑то перекинул новость о том, что ночью после конфликта с девушкой во «ВКонтакте» шестнадцатилетний подросток покончил жизнь самоубийством. Это был парень из моей школы, и он был на два года младше, как и тот человек, который меня сталкерил.
— Но это был не сталкер?
— Это был не он, потому что через несколько лет сталкер появился еще раз. Но какое‑то время я жила с пониманием того, что он мог умереть из‑за меня. Вроде как и не ты, но уверенности в том, что это не ты, нет. Полгода или год я жила с этим ощущением — а потом все закончилось, потому что он просто с ноги снова открыл дверь в мою жизнь. Это было очень жуткое время. В следующие полтора-два года я пыталась узнать, кто это, мне даже удалось с ним созвониться — но я так ничего не узнала. Так и живу с вопросом о том, кто это мог быть.
Как это отразилось на книге? Не знаю, удалось ли мне передать чувство какой‑то постоянной тревоги в общении с мужчиной, притом что это приятный мужчина, — до тех пор, пока я не узнала, что он сталкер, мне казалось, что это мой друг. А потом твой друг становится какой‑то самой большой тревогой и опасностью. И я пыталась передать похожее чувство Кате, которая влюбилась в неправильного человека и ощущала его своим другом. Другом, от которого тебе все время немножечко тревожно, но ты не до конца осознаешь, что ты испытываешь тревогу.

— В блоге вы год назад размышляли про свойственный русскому культурному коду высокий уровень толерантности к насилию. Можете ли сказать, что у ваших героинь этот уровень ниже? И вообще, что вы думаете об этом сейчас?
— Я думаю, что это по-прежнему так: у среднестатистического российского жителя действительно высокий уровень толерантности к насилию. У нас насилием пропитано все с самого детства. Пока не доешь — из‑за стола не выйдешь. Трудности закаляют человека. Все наши игры — казаки-разбойники, где, чтобы победить, нужно убить соперника, царь горы, где ты должен столкнуть другого, чтобы быть первым, морской бой, где ты топишь корабли другого, чтобы быть победителем.
Я периодически думаю о том, что насилие — просто часть культуры. И его так понемножечку вводят, что, когда ты в какой‑то момент оказываешься в центре насилия, ты не понимаешь, что в этом неправильного. Например, когда подростки дерутся — как будто бы что в этом неправильного? Они подростки, у них не сформировано милосердие, они агрессивные. Как поет Уитни Хьюстон, «It’s not right, but it’s okay». И вот это чувство it’s okay — оно мне кажется супердеструктивным. Это не окей.
У Кати и Нуры высокий уровень толерантности к насилию, совершенно точно. Нура не осознает, что с ней происходит насилие, когда ее заставляют что‑то делать. Даже скидывая фотографию в домашний чат, она переживает. Но что такого может произойти, если ты отправляешь фотографию? Этот страх чем‑то продиктован — и явно не чем‑то позитивным. Мы же не боимся получить комплименты, мы боимся получить негативную оценку. В жизни Нуры этого действительно достаточно, и она уже не понимает, где это перестает быть нормой. Она только учится понимать, что может давать отпор.
И Катя супертолерантна к насилию. Она точно знает, что она может взаимодействовать с миром через агрессию, может быть грубой, может быть злой, может нахамить кому‑то. Для нее это способ коммуникации с миром. И Катя, наоборот, в истории учится быть более нежной, более незащищенной, что ли.
— Еще одна цитата, но не ваша: «Нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью». Что для вас важного в этих словах?
— Это моя любимая цитата Чехова. Когда мы смотрим на человека и требуем у него стать другим. Когда мы смотрим на мусульманку и требуем от нее, чтобы она была светской. Или когда мы смотрим на цисгендерного серого русского мужчину и просим его перестать быть серым русским мужчиной, хотя это невозможно в рамках его опыта. Или требовать с ребенка, чтобы он вел себя как взрослый.
Для меня это история о том, чтобы отстать от людей и не трясти с них что‑то. А если тебя что‑то беспокоит, попытаться ему это объяснить, научить, рассказать.
— Обычно такие слова кричат не для того, чтобы поменять мир, а для того, чтобы показать: вот я-то не такой, я хороший.
— Да, и меня это очень огорчает, потому что я понимаю, что нельзя требовать от грязи, чтобы она не была грязью. Нельзя требовать от другого человека, чтобы он поменялся. Когда люди об этом просят других людей, они не просят поменяться — они просят их быть нормальными, быть незаметными, не бесить, не отсвечивать, не существовать в рамках их поля. А это невозможно. Мы все существуем в этом поле, нравится — не нравится. Мы должны научиться принимать друг друга с терпением, уважением и относиться к нему спокойно.

— Еще одна фраза, которая мне понравилась, когда я готовился к этой беседе: «Долгосрочные отношения у меня только с Аллахом, семьей и Кустурицей». Расскажите, откуда такое имя у вашего кенара?
— А тут нет никакой истории. У меня почему‑то очень многое происходит просто потому, что происходит. Так случилось с переездом в Екатеринбург: я просто по фану это сделала. Так и с Кустурицей. Да и с исламом тоже не было никакой трагедии: я просто «чо по кайфу, то и делаю», как говорит моя подруга. Нету в этом какой‑то истории. Вот какая скучная я, ну что поделать.
Просто мне подарили птенчика, я вам могу его показать, он потрясающе зеленого цвета парень (показывает). Он еще и очень маленький, потому что, оказывается, это помесь с чижиком. Он весит тринадцать грамм — как пачка жвачки. Мне его подарили, потому что у меня аллергия на эпителий животных, а на перо птицы нет.
— А имя-то почему такое?
— Просто мне пришло в голову — Кустурица. Прикольно, для семьи будет Кустик. Ничего особого к фильмам Кустурицы я не испытываю. Он у меня в голове существует только в рамках песни «Братьев Грим».
— Напоследок — можете посоветовать три тру-крайм-подкаста, которые вам лично нравятся?
Маруся Черничкина и «Черничный подкаст» — это то, с чего началось мое знакомство с тру-краймом. Мне очень нравится, как Маруся вещает, и понравилось, когда у нее появилась рубрика на ютубе, где она зачитывает жуткие истории своих подписчиков и комментирует их.
Саша Сулим. У нее очень профессиональные интервью с профайлером, с маньяками, с педофилами. Мне очень нравится, что она работает со всеми — и она круто берет интервью.
«Дела». Круто, что этот подкаст ведет психиатр. Мне нравится, что ведущий пытается анализировать портреты психопатов и маньяков, копает детство и предполагает, какой момент мог стать для него спусковым крючком. Очень интересно смотреть на такой психологический портрет маньяка.
* Оксимирон (Мирон Федоров) внесен Минюстом в реестр иноагентов.
** Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.