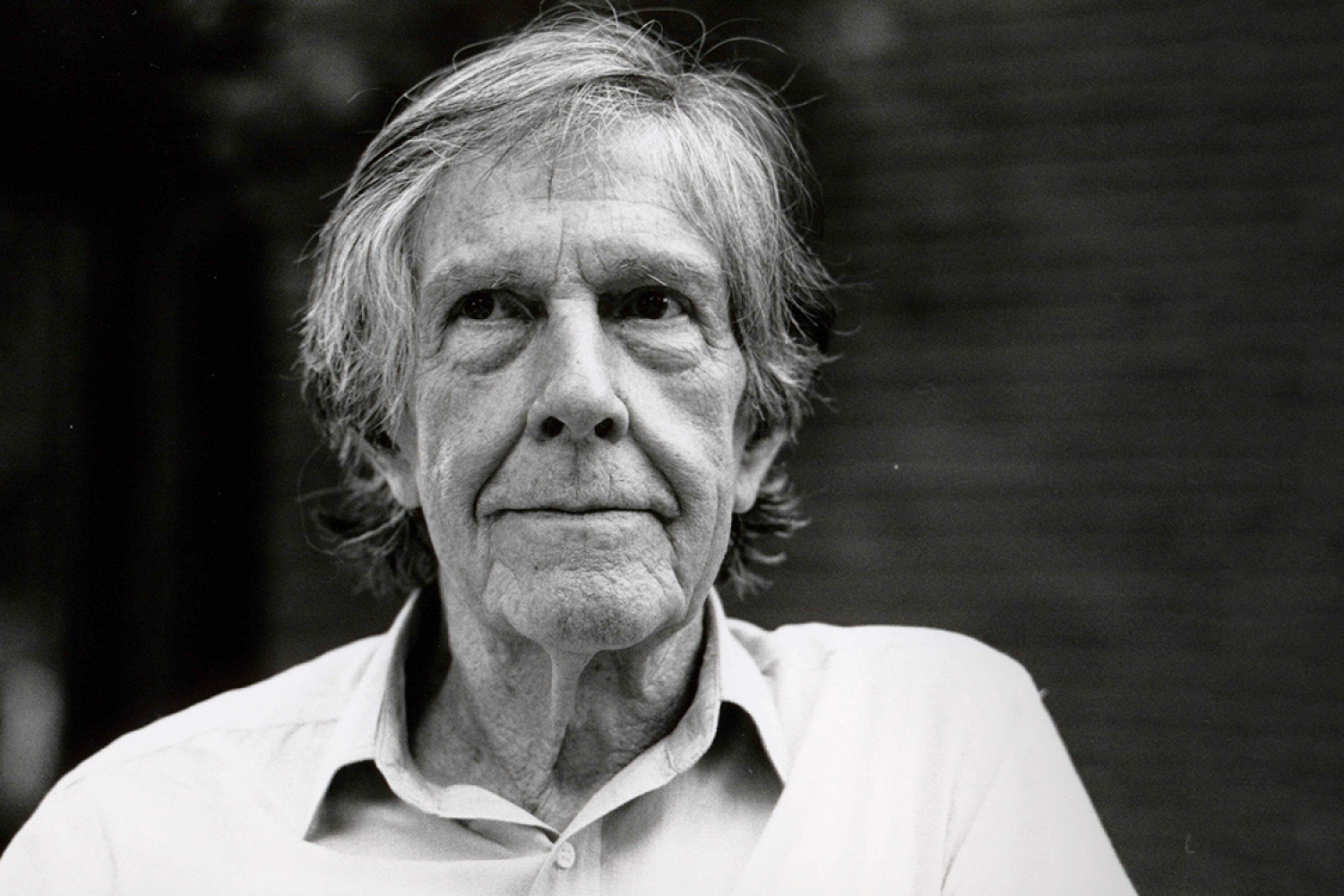Шум это музыка
К концу 1930-х годов, которыми датированы первые сочинения Кейджа, академическая музыка пережила многое — атональность, «эмансипацию диссонанса», изобретение додекафонной системы, — но все-таки по-прежнему оставалась музыкой, которую исполняют специально обученные люди (музыканты) в специальных местах (филармонии, концертные залы) на привычных инструментах. Кейдж показал, что музыку нового типа может исполнять кто угодно (некоторые его сочинения доступны и энтузиастам, вовсе лишенным слуха, хотя для других, вроде «Музыки перемен», требуется невероятная виртуозность), где угодно (в галереях современного искусства, на улицах, на телевидении), на чем угодно (стулья, ракушки с водой, 12 радиоприемников, подзвученный кактус) и, в известной степени, как угодно (многое в сочинениях отдавалось на откуп исполнителю, а концерты заменили хеппенинги и «музицирки», в которых несколько сочинений могло исполняться параллельно — так в цирках XIX века зритель мог смотреть на несколько арен сразу).

Главное же, музыкой теперь могло быть что угодно. Кейджа интересовали абсолютно любые звуки: если Шенберг «эмансипировал диссонанс», то есть доказал, что неблагозвучные интервалы ничем не хуже благозвучных («диссонанс — это просто далеко ушедший консонанс»), то Кейдж эмансипировал звук как таковой. Ему был равно ценен абсолютно любой звук, изданный при помощи чего угодно — хоть стула. Если попытаться двумя словами определить то, что случилось с музыкой второй половины XX века, главным будет именно этот внезапный интерес к тембрам, к вглядыванию музыки внутрь себя.
За воспеванием шума — например, шума нью-йоркских улиц, который Кейдж считал лучшей музыкой на свете, — проглядывала и неожиданная романтическая подкладка: Кейджа в юности приятно поразила мысль немецкого художника и мультипликатора Оскара Фишингера, под воздействием которой он попытался буквально вытрясти душу из окружающего его мира.
Кейдж: «Фишингер говорил, что все в этом мире имеет душу, которая изливается в звуке. Спиритизм меня не привлекал, но я начал стучать по всему, что видел. Я все познавал через звук. Это вылилось в мой первый оркестр ударных».
Тишины не существует
Самую известную пьесу Кейджа, «4’33», многие считают гимном тишине, пустоте и недеянию. Кейдж действительно много времени уделял теме пауз и пустоты, отчасти под влиянием лекций по дзен-буддизму Судзуки, которые он прослушал в конце 1940-х, и индийского учения о девяти перманентных эмоциях («в центре та, что никак не окрашена (остальные черные и белые), — это покой, свобода от симпатий и антипатий»).
Но на деле «4’33”» — пьеса, в которой на протяжении 4 минут 33 секунд пианист (или любой другой музыкант) не издает ни звука — это прежде всего пьеса о невозможности тишины. Кейджа на ее создание вдохновили белые картины его друга, художника-концептуалиста Роберта Раушенберга. Раушенберговские монохромные полотна в галерее тоже никогда не были абсолютно белыми — на белые холсты падали тени посетителей, блики и отсветы, в разное время суток они выглядели по-разному. Разумеется, «4’33”» — это пьеса еще и об отношениях исполнителя и публики и вообще о рамке, в которую помещает музыку ее исполнение в специальном месте специальным человеком (эффект «4’33”» возможен только в концертном зале и во многом определяется ожиданиями слушателей).
«Для меня и моих друзей — Андрея Монастырского, например, и вообще для круга московских концептуалистов — Кейдж был одним из самых важных людей, — говорит Лев Рубинштейн. — Мы с ним познакомились в начале 1970-х, году в 1973-м, — благодаря, в частности, Алексею Любимову, Марку Пекарскому и Владимиру Мартынову с Татьяной Гринденко. Конечно, его пьеса «4’33”» и вообще его отношения с пустотой, тишиной, паузами сильно повлияли на то, что я тогда делал. Мой друг, музыковед Михаил Сапонов, профессор Московской консерватории, тогда же перевел пару лекций Кейджа и читал их под музыку — а они ведь и сами написаны как партитуры, с паузами, своим ритмом. Это производило сильное впечатление».
Кейдж: «Я считаю, лучшее мое сочинение — по крайней мере, я сам люблю его больше остальных — это пьеса тишины [«4’33”»]. Там три части, и ни в одной из них нет ни звука. Я хотел, чтобы это сочинение было свободно от моих симпатий и антипатий, потому что считаю, что музыка должна быть свободна от чувств и мыслей композитора. Я знал и хотел привести других к пониманию того, что звуки, их окружающие, создают музыку более интересную, чем та, которую можно услышать в концертном зале.
Меня не поняли. Такого понятия, как тишина, не существует. То, что слушатели приняли за тишину, потому что не умели слушать, было полно случайных звуков. [На премьере] можно было услышать ветер за окнами в первой части. Во второй на крышу стали падать капли дождя, а в третьей люди и сами стали издавать интересные звуки, когда заговорили или двинулись к выходу».
Главное в музыке — это время
Кейдж начинал учиться музыке вполне традиционным способом: выбрал мастера и поступил к нему в услужение («Когда я был молод, нужно было идти либо за Стравинским, либо за Шенбергом. Альтернативы не было. Я предпочитал Шенберга остальным современным композиторам в качестве учителя, я решил, что буду учиться у него, а учиться у него — значит верить в то, что он говорит»). Обучение 12-тоновой технике, гармонии и контрапункту скоро закончилось: Шенберг объявил Кейджу, что тот не сможет стать композитором, потому что неспособен чувствовать гармонию, а без этого просто уткнется в стену. По легенде, Кейдж ответил: «Тогда я всю жизнь буду биться в эту стену головой».
Профнепригодный (по канонам XIX века) композитор, Кейдж начал придумывать новую систему, которая бы позволила ему сочинять, вообще не прибегая к гармонии. Он описывает это так:
«У меня нет, что называется, музыкального слуха, и никогда не было. Я не слышу, какой высоты звук. Весь аспект музыки, связанный с высотой звука, от меня ускользает. Высокий звук или низкий — это имеет для меня не столь уж большое значение.
Я подумал, что, если я не собираюсь вводить в свою музыку тональность, мне нужно что-то другое, что задавало бы структуру; и это ритм. Я изучил природу звука: высоту, длительность, тембр, громкость. Потом я стал изучать тишину; из этих четырех свойств тишина обладает только длительностью. И когда я понял, что время — это правильная основа для музыки, поскольку охватывает и звуки, и тишину, я увидел, что тональность, гармония, контрапункт и все эти вещи, на которых основана европейская музыка, несовершенны настолько, что превратили ее в скучнейшую вещь: зачастую гармоническое благозвучие оборачивается скукой.
Я — композитор для ударных, не важно, пишу я для ударных или нет. Это значит, что мои сочинения структурно базируются не на частоте, а на категории длительности».
Иными словами, для Кейджа — и целой плеяды композиторов после него — музыка это просто развертывающиеся во времени звуки. Он рассматривал музыку как совокупность временных отрезков, «пустых контейнеров», в которых звуки соседствуют с паузами. «4’33”» — это один из примеров такой музыки: три временных контейнера, в котором композитором предусмотрена только длительность пауз, а звуков нет (точнее, звуки издает публика и все, что окружает музыканта). В отличие от музыки, которая предшествовала Кейджу, и даже современной ему новой авангардной музыки его интересовали прежде всего сами звуки, а не их взаимосвязь между собой — то, на чем базировалась европейская музыкальная традиция. Побочным эффектом этого интереса стало изобретение новых инструментов (например, знаменитого «препарированного пианино») и многочисленных новых систем нотации: партитуры Кейджа могли выглядеть как список инструкций, схема звездного неба или пачка прозрачных листов с хаотическими линиями.
Кейдж:«В одной своей лекции Карлхайнц Штокхаузен подробно рассказывал, что слушание музыки — это слушание взаимосвязей, взаимоотношений. А по-моему, слушание — это слушание каждого звука. Слушая взаимоотношения, упускаешь сами звуки. По Карлхайнцу, вы должны знать, что такое большой и малый интервал и что один есть обращение другого, и так далее; в то время как я слушаю окружающие нас звуки, я их слушаю, даже и не пытаясь установить между ними такого рода взаимоотношения <…> Я всю жизнь отрицал важность взаимосвязей и создавал ситуации, в которых никаких взаимосвязей не предвиделось <…> [Я хотел] найти способы писать музыку, где звуки будут свободны от моих намерений».
Сати важнее Бетховена
В XX веке не было более страстного пропагандиста музыки Эрика Сати, чем Джон Кейдж. Именно он откопал в его архиве пьесу «Неприятности» — нотную страничку с последовательностью из 36 аккордов, над которыми написано «повторять 840 раз» — и исполнил ее с помощью команды из 12 энтузиастов (в их числе были Джон Кейл, композиторы Крисчен Вулф и Дэвид Дель Тредичи) в 1963 году в Нью-Йорке; исполнение длилось 18 часов. Не без помощи Кейджа Сати превратился из не слишком известного французского эксцентрика в одну из важнейших фигур музыки XX века: внезапно оказалось, что он предвосхитил и минимализм, и эмбиент, и многие находки самого Кейджа. Для слушателей колледжа в Блэк-Маунтин Кейдж даже прочитал лекцию, в которой топтал Бетховена и превозносил Сати, доказывая, что Бетховен — отрезанный (и стухший) ломоть, а музыка Сати куда важнее. «Кто был прав? — риторически восклицал Кейдж. — Бетховен или Веберн и Сати? Я отвечаю немедленно и недвусмысленно: Бетховен заблуждался, и его влияние, столь же обширное, сколь и прискорбное, умертвило музыкальное искусство».
Кейдж: «Я прочел двадцать четыре коротких лекции и одну длинную, в которой развенчивал Бетховена, вершину немецкой музыки. В ключе разговора о Сати это необходимо было сделать, тем более что и сам Сати высказывался против Бетховена. И я рассказывал немцам, что бетховенская музыка изначально ошибочна, а музыка Сати правильна. Причина в том, что музыка Бетховена основана на союзе формы и содержания, там есть начала, концы и середины, есть идеи и выражение чувств, и все это не имеет никакого отношения к звуку. А музыка Сати по большому счету основана на пустой протяженности времени, где просто случается то одно, то другое. Не могу иначе объяснить некоторые пьесы, написанные около 1912 года, в которых нет ничего из того, что, как утверждает немецкая музыка, должно быть в музыке. <…> Интерес к бездействию и повторениям завел Сати гораздо дальше, чем, скажем, Энди Уорхола».
Случайность — это не так-то просто
Метод случайных действий применительно к музыке — возможно, главное изобретение Кейджа. В пятидесятые Кейдж открыл для себя «И цзин» и сделал гадание на нем основой своей композиторской практики: теперь Кейдж сочинял, задавая «И цзин» вопросы, касающиеся любых аспектов сочинения — параметров звука, структуры, соотношения частей композиции и пр. Таким образом, композитор мог влиять только на процесс, но не на результат. Любопытно, что параллельно европейские авангардисты разрабатывали идеи тотального сериализма, в котором композитор точно так же не мог влиять на получающуюся вещь — разница была лишь в том, что Кейдж опирался на случайность, а Булез, Штокхаузен и Ксенакис — на тотальный контроль над каждым аспектом звука при помощи сложных формул и таблиц. Музыка, как ни странно, у них нередко получалась похожая — достаточно послушать «Структуры» Булеза и «Музыку перемен» Кейджа.
Кейдж: «Случайные действия — это дисциплина, а импровизация редко является таковой. Хотя сейчас как раз меня интересует эта проблема — как сделать импровизацию дисциплиной. Под чем я подразумеваю убрать контроль со стороны эго. Обычно импровизация — это когда играешь то, что знаешь, любишь и чувствуешь, но как раз от этих чувств и пристрастий, согласно учению дзен-буддизма, нам нужно освободиться.
Разница в том, что импровизация часто зависит не от той работы, которую вы должны проделать [то есть композиции, которую вы исполняете], а от вашего вкуса и памяти, от ваших пристрастий и антипатий. Это приводит вас не к новому опыту, а к тому, что вам уже знакомо; а если вы должны сделать работу, которая не определена четко какой-либо системой обозначений, предполагается, что вы должны представить определение некоторых вещей, которые сам композитор не определил.
Если [музыканты] будут делать что захотят, то наверняка то, что помнят или любят, это очевидно, и тогда исполнение и сама пьеса не станут тем открытием, которым могли бы стать, если бы музыканты дисциплинированно использовали случайные действия. А также для слушателей, которые могут сразу сказать, делает ли кто-то что-то дисциплинированно или импровизирует. Большинство исполнений «Театральной пьесы» плохи, потому что люди не понимают необходимости такой дисциплины.
Порой кто-то поступает с пьесой так, словно волен делать что хочет, — а ведь я говорю: «Следуйте внутренней дисциплине», а не: «Делайте все, что вам нравится». Увы, всегда находятся люди, уверенные, что именно это я и говорил. Не так давно на семинаре в Буффало мне пришлось — после весьма посредственного исполнения «Книги песен» — сказать то же, что сейчас: я не предоставляю свободу делать что душе угодно, а напротив, предлагаю исполнителям возможность освободиться от своих симпатий и антипатий, внутренне сосредоточиться.
Как правило, те, кто считает, что меня интересует случайное, не понимают, что случайное я рассматриваю как дисциплину. Они думают, что случайное для меня — это такой способ отказаться от выбора. Но для меня выбор — это выбор вопроса, который следует задать».
Книга Ричарда Костелянца «Разговоры с Кейджем» выпущена издательством Ad Marginem в рамках их совместной издательской программы с музеем «Гараж». Подробнее о ней можно прочитать на сайте «Гаража» или Ad Marginem.