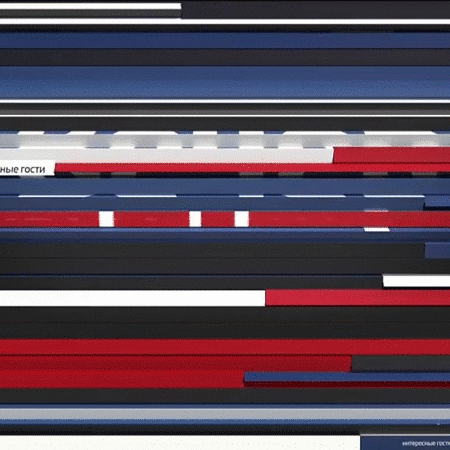Как выбрать собственный протестный путь и почему интернет не нужен
Я родился в Москве, но долго жил в Московской области в частном доме. Очень люблю лес и природу, совсем не городской человек. Я окончил институт, учился на физика, но всю жизнь работал электриком. Семь лет назад переехал в Москву, потому что одному в доме жить стало тяжело. Семьи у меня нет. Мама умерла двенадцать лет назад.
Мне всегда была интересна история, в школе я читал много книг по этой теме. Политикой начал увлекаться еще в молодости. Когда мне было семнадцать лет я, кажется, мечтал о революции. Был очень протестным, часто дрался и считал, что проблемы можно решить только кровавым путем. Но потом стал склонятся к пути Яна Палаха (студент, совершивший самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками СССР и других стран Варшавского договора. — Прим. ред.) и действовать не сердцем, а умом. Я тогда уже читал Махатму Ганди, Мартина Лютера Кинга и Нельсона Манделу. И осознал, что моя ниша — это мирное противостояние. Также, хоть я и не верующий, а точнее агностик, меня очень вдохновляет путь Христа.
Протесты в России были постоянно, и я почти всегда в них участвовал. Мама за меня очень переживала. Однажды у нее на этой почве случился инсульт — я тогда очень злился на власть. Она была простой женщиной, просто хотела спокойно жить, боялась лезть в политику. А когда она умерла в 2007 году, я стал ходить на все митинги.
Я даже в пионерском лагере был очень несчастлив, потому что там нужно делать то, что скажут. И, хоть я тюрьмы не боюсь, понимаю, что, скорее всего, не вынесу этого. Сейчас же ни за что сажают. Например, Константин Котов — очаровательный человек, поддерживал маму Ани Павликовой. Ну что он такого сделал? Ничего (Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в трех митингах. — Прим. ред.).
У суда, когда было дело Голунова, я стоял целый день. Я тренированный, лесовик же, я могу ходить день-два-три без палатки. Раньше и в горы ходил, и на байдарке плавал. Но сейчас сил на все не хватает, я уже старый. У меня куча дел, дача вот в Подмосковье, за ней надо ухаживать, но у меня вообще времени нет.
Я давно не смотрю телевизор, убрал его на шкаф. Но у меня есть радио, постоянно слушаю «Эхо Москвы» и узнаю всю нужную мне информацию. С людьми общаюсь здесь (интервью проводилось на Большом Москворецком мосту у народного мемориала Борису Немцову. — Прим. ред.), мне этого достаточно. А в интернете не сижу, мне это вредно — я такой слабовольный, не могу собой заняться, а если у компьютера сижу, могу и килограмм конфет съесть зараз. Вот в прошлом году я окончательно решил отказаться от этого всего.
Меня иногда узнают — молодежь на митингах подходит и говорит что‑нибудь приятное. Еще меня часто фотографируют на митингах, говорят, что я в репортажи попадаю, но у меня-то интернета нет, так что не знаю, правда ли это.
О задержаниях, самом приятном ОВД Москвы и отношениях с полицейскими
Первый раз меня арестовали на Пушкинской площади лет сорок назад. Там собирались диссиденты в день принятия Конституции 1977 года — и меня схватили. Тогда же из‑за меня уволили мать. На работу к ней пришли — и уволили. А меня просто отпустили.
Я выхожу, потому что пытаюсь хоть на что‑то повлиять. Так радовался, когда Ваню Голунова выпустили, потому что мне действительно стало страшно, когда его поймали. Ему же подкинули наркотики на Цветном бульваре, а я тоже часто там хожу. И я на все митинги за него выходил, да и не только за него — любой из нас может оказаться в такой ситуации. Это, конечно, исключительный случай, но я страшно рад, что он на свободе.
На суды я не хожу, но всегда стою у здания. Когда, например, у Олега Навального были суды, я приходил. Он меня хорошо знает, раньше подходил здоровался. И с Pussy Riot я общался, за них переживал серьезно. Помню, на одном из их судов мы забрались на забор и оттуда зажигали файеры. Я за это восемь суток отсидел. Меня часто задерживали, но сколько раз привлекали, не знаю. Часто бывало, что отпускали из ОВД без составления протокола.
Однажды меня свинтили на митинге Навального в 2015 году. Нас привезли в Тверское ОВД, мы просидели там несколько часов. Потом пришел офицер и сказал, чтобы нас выгнали. Мы зачем‑то вышли на улицу, и я подумал: «А что я тут стою?» — и убежал от них. Побежал до Петровского переулка в сторону Неглинной, но меня догнали и вернули обратно. В итоге мы посидели еще немного, а потом пришла девушка и сказала: «Ладно, идите домой, рисуйте дальше свои плакаты». Мне вообще везет в Тверском отделении, эта девушка несколько раз меня отпускала. Я всегда там общаюсь с сотрудниками, постоянно говорю им: я вышел не потому, что за Навального, а потому что боюсь войны властей против народа, ведь они опасаются, что народ у них отнимет наворованное. Люди на них уже ополчились, а им нужна война, чтобы мы забывали о своих проблемах и переключались на более значимые события. В таких условиях они спокойненько продолжат воровать и делать то, что считают правильным.
На пикетах в поддержку Вани [Голунова] меня тоже задержали, я сидел в автозаке с Шендеровичем. Но нас в итоге привезли в ОВД и всех отпустили. Почему? Непонятно — как повезет.
Последний согласованный митинг, где было 60 тысяч человек, мне очень понравился. Я видел фото, где все стояли под зонтами, потому что шел сильный дождь, и среди этих зонтиков — мой плакат «Кафка Путин». Хорошая фотография. Я всегда стою в первых рядах на митингах, потому что прихожу за час, чтобы проверить обстановку.

А с митинга коммунистов меня выгнали. Я пришел с плакатом «Иго ФСБ» — ничего серьезного. Простоял спокойно минут сорок, а потом вышел Зюганов, прошел позади меня, с кем‑то поздоровался и ушел. Через несколько минут подошел полицейский и попросил меня убрать плакат. Я спросил, на каком основании, и он ответил, что организаторы требуют. Я убрал, но дико разозлился и ушел с митинга. Потом пошел к памятнику Шухова, потом к Крупской и к Высоцкому, везде постоял с пикетом. У меня нюх есть: я сразу понял, что в этот день не будут брать. А вот 27-го [июля] я понимал, что нас будут задерживать (на митинге за честные выборы в этот день задержали 1371 человека. — Прим. ред.), но не пойти не мог. Тем более я всех своих друзей и знакомых призывал. Говорил им: «Мы выйдем на улицу и на следующий день проснемся либо в стране людей, либо в стране рабов». В итоге меня и еще кучу людей задержали. 3 августа я уже не вышел, потому что побоялся, что меня посадят по «дадинской» статье (статья 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». — Прим. ред.). Я решил, что буду стараться ходить только на согласованные митинги, в тюрьму не хочется.
«Иго ФСБ» — ничего серьезного. Простоял спокойно минут сорок, а потом вышел Зюганов, прошел позади меня, с кем‑то поздоровался и ушел. Через несколько минут подошел полицейский и попросил меня убрать плакат. Я спросил, на каком основании, и он ответил, что организаторы требуют. Я убрал, но дико разозлился и ушел с митинга. Потом пошел к памятнику Шухова, потом к Крупской и к Высоцкому, везде постоял с пикетом. У меня нюх есть: я сразу понял, что в этот день не будут брать. А вот 27-го [июля] я понимал, что нас будут задерживать (на митинге за честные выборы в этот день задержали 1371 человека. — Прим. ред.), но не пойти не мог. Тем более я всех своих друзей и знакомых призывал. Говорил им: «Мы выйдем на улицу и на следующий день проснемся либо в стране людей, либо в стране рабов». В итоге меня и еще кучу людей задержали. 3 августа я уже не вышел, потому что побоялся, что меня посадят по «дадинской» статье (статья 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». — Прим. ред.). Я решил, что буду стараться ходить только на согласованные митинги, в тюрьму не хочется.
К полиции я, кстати, отношусь хорошо. Как к докторам. Я всегда решаю свои проблемы сам, но, может быть, когда‑нибудь и мне придется обратиться к ним. А есть ведь те, кто их дико ненавидит, но при этом, когда возникают какие‑то проблемы, они сразу к ним бегут за помощью. Это неправильно.
О дежурстве на «мосту Немцова», «сербовцах» и преследованиях
На [Большой Москворецкий] мост я стал выходить только через месяц после убийства (Борис Немцов был застрелен в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. — Прим. ред.). Просто в один день пришел познакомился с людьми, которые организовали и на тот момент охраняли мемориал, и решил, что тоже хочу это делать. И вот уже четыре с половиной года два раза в неделю я стою тут с 6 утра до 8 вечера.
Первой зимой было очень тяжело. Женщины приносили шубы и дубленки, чтобы прятаться от ветра, а сотрудники Мосгормоста приезжали и все забирали. Один раз даже паспорта и деньги забрали. Мы сразу написали заявление в полицию, и нам все отдали. После этого вещи забирать перестали. Я, вообще-то, походник, привык к разным природным условиям, но даже мне было очень холодно. А как женщины выдерживали, вообще не представляю.
К сожалению, два года назад убили Ваню Скрипниченко, моего друга и волонтера «Немцова моста», — он был самый веселый из нас. Он научил меня маршировать с моей тростью. Я дежурил днем, а он ночью. Когда он приходил, то брал швабру и официально принимал у меня пост, а я ему пост сдавал. Было смешно. Он был очень активный, занимался экстремальными видами спорта. В один вечер к нему на мост пришел какой‑то военный и спросил: «А ты че, Путина не любишь?» Тот ответил, что предпочитает девушек. Ну это его стиль, он так всегда со всеми разговаривал. А тот разозлился, избил его и проломил лицо. И когда Ване делали операцию, он умер. Теперь его фото тоже стоит на мемориале.
Активисты SERB (националистическая политическая группа, действующая на территории России и Украины. — Прим. ред.) к нам тоже часто приходят. Обычно это [Алексей] Кулаков — он меня прям ненавидит — и еще несколько человек. Они пытаются что‑нибудь сломать, один раз хотели украсть значки «Немцов мост» и «Миру мир», которые я раздаю всем желающим. Но я их никогда не бил, привык уже. А однажды они пришли на годовщину смерти Вани. И на глазах вдовы и друзей один из них подошел, разбил стекло и забрал фотографию Вани. Что мне было делать? У меня была палочка легкая, и я ею хлестнул его по щеке. В молодости я вообще был чрезвычайно резким, хорошо владел телом, сейчас-то уже нет, но что‑то все-таки еще осталось. Помню, у него глаза стали белыми, он на меня бросился, оступился, упал и попал в больницу. Я подумал: «Ну сяду и сяду, что поделать». Ко мне пришли полицейские и сказали, что у него черепно-мозговая и сотрясение мозга. У них тогда начальник хороший был. Я ему сказал: «Да ударил палочкой подонка, совсем чуть-чуть задел, и это вообще не драка была, он сам спровоцировал агрессию в свою сторону». Удивительно, но этот начальник выслушал меня и отказал «сербовцам» в возбуждении уголовного дела.
Церковники на меня тоже наезжали. Пару лет назад вообще был очень странный случай. Я обычно иду на первое метро где‑то в 5.30 утра, и никогда людей нет, а тут увидел, что стоит целая группа. Я удивился, а потом заметил среди них девушку — она мне запомнилась, когда мы за Pussy Riot митинговали, потому что она пришла вместе с православными, принесла замороженную курицу и что‑то громко кричала. Я тогда ей как‑то некрасиво ответил — обычно я вежливо общаюсь со всеми женщинами, но тогда сорвался. И вот они за мной пошли, я развернулся и сказал им: «Ну что, драться будем?» Они, по-моему, растерялись. И ничего не было. Не то чтобы у меня появилась мания преследования после этого случая, но как‑то неприятно было — я теперь просто стал более настороженным, чужих людей к себе домой не пускаю.
Будет ли только хуже и почему Навальный — не проект Кремля
Россия — это единое существо. В нем есть 10% плохих людей, а есть еще 10% хороших, все остальные — это туловище. Сейчас в России власть именно плохих людей: Пригожина, Шаманова, Сечина. Для меня это и есть русский фашизм — когда туловище склоняется к этим 10% плохих. Я пытаюсь бороться за то, чтобы мы двигались к хорошему. И сейчас, мне кажется, так и происходит: чернота уходит, мы избавляемся от гангрены и туловище начинает белеть — это и есть суть лично моей борьбы.
Путин — абсолютный тиран, и с возрастом он становится только хуже. Сталин тоже ведь поначалу не был таким маразматиком, а потом совсем с катушек съехал. Кажется, если бы Сталин прожил дольше, у нас была бы третья мировая. И с Путиным то же самое. Он был хорошим сотрудником КГБ, потом, когда с Собчаком работал, был хорошим либералом. А сейчас уже просто тиран.
На митинге 27-го, когда меня несли, я кричал: «Мы хотим жить не по лжи. Что это за выборы, депутаты ****** [козлы]. Путин — президент-******* [козел]». Рядом со мной стояли еще двое, у которых в сумке были плакаты, и девушки, которые вообще ни при чем. Их тоже схватили и покидали в автозак, как воробушков. И всем нам написали, что мы кричали «Путин — вор». Но я не знаю, что они мне там выписали, я в суды не хожу никогда.

Мы дожили до того, что у нас отобрали возможность заменить плохого правителя на менее плохого. А с другой стороны, я не знаю на кого заменять. У Путина же дочка есть, Маша Воронцова (о старшей дочери президента впервые рассказал журнал The New Times в 2016 году. — Прим. ред.), она вроде неплохой человек, может, на нее кто‑то повлияет, и она в политику пойдет. Навальный, конечно, тоже хорошо, но мало ли чего он хочет. Навальный может стать президентом, если только договорится с кем‑то — слабо верится, что это произойдет. Но когда его называют проектом Кремля, я удивляюсь. Вы чего, ребята? Вы видели, как он своего брата любит? А жена у него какая красивая! Когда они вместе за руку идут, выглядят как два ангела. Я, вообще, Алексея плохо знаю, больше с Олегом разговаривал — он очень хороший человек. Но я помню, как он встречал Олега из тюрьмы, стоял весь бледный. Мне кажется, ему гораздо проще было бы отсидеть, чем брату. Он этого никогда властям не простит. И называть его проектом Кремля — какая‑то глупость.
О летних митингах за честные выборы
[Силовики] ведь совсем сумасшедшие ошибки совершают. Я слышал историю по радио: [Ольга] Проказова рассказывала, что к ним ночью ворвались с обыском люди в масках. А она же еще грудью кормит, у нее молоко могло пропасть. Они совсем охренели. Или история с Хомских: шли они по бульвару с двумя колясками — и что? По бульвару в тот день сотни семей с детьми шли, давайте теперь всех лишать родительских прав — это бред. И уже совсем не важны эти выборы, за ребят надо выходить — невинные же страдают.
Но 45 депутатов, почему не хотели ни одного допустить? Потому что в Думе появился бы народно-прокурорский взгляд, который мог контролировать бы наши деньги. Я уже потом понял, как правильно надо было звать на улицы людей — говорить, что мы боремся за свои деньги. Москва — это же жирнейший кусок в России. В Москве лучше медицина, музеи, плитка, метро, в два раза больше пенсия. Чуть ли не 40% всех денег общего бюджета тратятся на Москву. И депутаты ужасно боятся пригляда, потому что Соболь и Яшина не купить. Я не то чтобы верю им — я человек неверующий, — но я на них надеюсь. Есть часть людей, которая выходит именно за определенных людей, не допущенных на выборы, есть часть людей, которая выходит из‑за несправедливости. Вот я отношусь ко второй части. Когда там у Навального проблемы, на улицы выходят только оппозиционеры. Но тут-то проблемы шире: это вопрос наших денег и благополучного будущего. Вот если бы все это понимали, на Сахарова было бы больше людей.